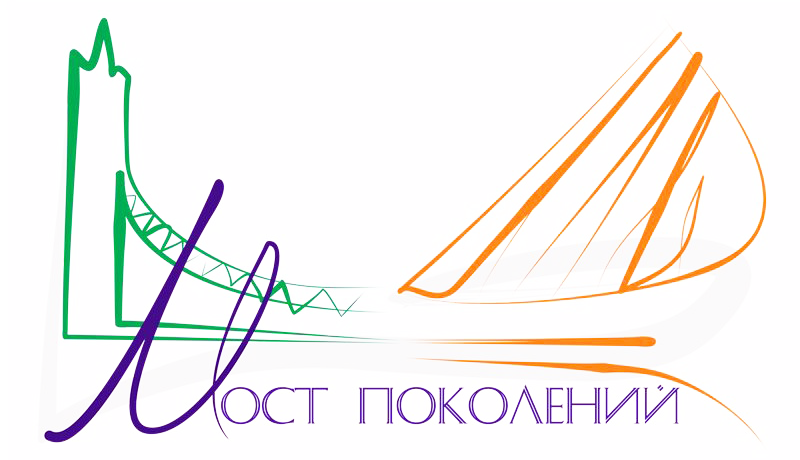между поколениями, а также на повышение уровня культуры и знаний общества в целом посредством проведения просветительских и образовательных мероприятий

В 1933 году семью Марии раскулачили, и для девочки и её родных началась непростая жизнь. Родители с детьми переехали в Ленинград, который вскоре оказался в кольце блокады. В феврале 1942 года мать и дети уехали в эвакуацию в маленький город Вельск, но они ещё вернутся в Ленинград – абсолютно другой, послевоенный.
С песней по жизни
Мария Григорьевна Хатунцева проработала в конструкторском бюро 28 лет и привнесла в мир красоту песни – всю жизнь в свободное от работы время она пела и выступала на сцене как ведущая. Награждена медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Сто лет Ленинскому комсомолу», «Ударник коммунистического труда, знаком «Донор СССР», а также памятными медалями и знаками: «Жителю блокадного Ленинграда», «В честь 50, (55, 60, 65, 70, 75)-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «50, (55, 60, 65, 70, 75) лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Мария Григорьевна родилась в 1930 году в деревне Охлябинская Архангельской области. У её бабушки был большой дом, в котором и жила семья Никитинских. Одна изба была летняя, а другая – зимняя, а между ними находился скотный двор. Здесь содержались куры, поросята, корова, лошадь – своё домашнее хозяйство.
В 1933 году бабушку раскулачили, и родители спешно уехали в Ленинград, чтобы их не арестовали. В 1935 году Машу и её сестру Раю родители забрали в город, где семья стала жить в деревянном бараке на его окраине. В доме не было ни электричества, ни воды, общая кухня и один туалет на весь этаж. Так жили до войны. До города было несколько километров, и родители ходили на работу пешком, а Маша через поле – в ближайшую школу.
Начало войны Мария Григорьевна помнит очень хорошо – буквально за 5 дней до рокового дня девочке должно было исполниться 11 лет. 22 июня 1941-го стоял солнечный день – дети бегали по улице в сандаликах, во дворе за большим столом мужчины играли в шахматы и домино, и тут внезапно – весть, что началась война! Как вспоминает Мария Григорьевна, тогда кто-то из мужчин сказал: «Как же так? Мы только что в Германию отправили эшелон хлеба, а Гитлер на нас напал!» Однако этот вопрос так и остался без ответа…
Когда началась война, мужчин сразу мобилизовали и отправили на фронт, в том числе отца и дядю (младший брат отца) Марии. С войны они не вернулись. Машу и сестёр посадили в машину и отправили в деревню, название которой девочка не запомнила, но помнит, что жили они там недолго. Немец шёл очень быстро. Тогда детей стали быстро собирать и увозить на поездах. А немец рядом, самолёты летают над вагонами. Дети плакали, кричали, маленькие прятались за старшими. Как немец начинал строчить – поезд останавливали и дети прятались под лавками.
Как рассказывает Мария Григорьевна, поезд приехал на большую станцию, где детей уже встречали незнакомые им люди – они плакали, прижимали их к себе. Лишь позже они узнали, что из восьми вагонов пришло только два! Вот что такое война…
Далее поезд с детьми привезли обратно в Ленинград. На вокзал вызвали всех мам. В свой барак, где жили до войны, семья Марии не вернулась. Их поселили в подвал, где только тёмная траншея да лавки. 8 сентября 1941-го началась блокада, и больше людей из города не выпускали, поэтому Никитинские в 1941 году эвакуироваться не успели. Маша, сёстры и мать прожили до февраля 1942 года в этом тёмном холодном подвале. Потом всем сообщили, что будут эвакуировать по Ладоге. Многие женщины отказались ехать, мол, будет тепло, тогда и поедем. А мама Марии ответила, что они поедут, так как у них не было никакого жилья – терять нечего.
В чём были, в том и поехали. Мать и троих детей, включая Марию, посадили в открытую полуторку. Она закрыла чем-то детей и сказала: «Умрём, так все вместе!». А на Ладоге в ту пору мороз –30°C, немец строчит, вьюга разыгралась страшная. И вокруг крики, стоны и машины на глазах уходят под лёд.
Кто-то кричит «Мама!», а мать в ответ истошно: «Вовочка! Машенька!»… Старались не смотреть, но всё слышали! Машины за секунды тонули вместе с людьми.Ладожское озеро переехали благополучно, и мать решила далее ехать в Архангельскую область, на север: там её родители и дом. Семья пересела на другую полуторку и добралась до маленького города Вельск. С одной стороны – река Вель, с другой – Вага. Там мама сняла комнату. Из убранства: столик, самовар, стул, скамеечка и маленькая печка. Так и остались жить в Вельске, где потом мать купила избушку. Младшую сестрёнку Розу отправили в деревню к бабушке, а Мария пошла в местную школу, окончила здесь семилетку, а после уехала в Ленинград.День Победы Мария встретила уже в Ленинграде, будучи студенткой-второкурсницей педагогического училища. Здесь, на Пушкинской улице, на первое время Марию приютила тётя Шура – мамина знакомая. Она всю блокаду пережила в Ленинграде, и в квартире почти ничего не осталось, потому что всё, что только горело – сожгли. У девушки в комнате был маленький столик, табуретка деревянная, кровать и печка. Тётя Шура ей подарила немецкое платье.Когда по радио объявили, что война кончилась, Мария побежала в училище и закричала: «Ура! Война кончилась! Мы победили! Больше войны не будет!» Мать устроилась на работу в пекарню, выпекала хлеб. Напротив её пекарни – педучилище. На переменах Маша бегала к маме, чтобы выпить чаю с кусочком хлеба и убегала обратно.Мария Григорьевна 28 лет проработала в конструкторском бюро в секретном отделе и видела, как на воду был спущен атомный крейсер «Пётр Великий», который и поныне находится в составе ВМФ РФ. Всю жизнь пела в хорах и ансамблях, вела концерты и встречи. В советское время музыкальные коллективы, где пела Мария Григорьевна, давали очень много концертов по стране - в воинских частях, санаториях, домах отдыха, совхозах.Пережитые в детстве потрясения не сломили её дух, а закалили его! Мария Григорьевна, зная ценность жизни, желает молодёжи, во-первых, быть вежливыми и уважать старших. А, во-вторых, обращаясь к девушкам и женщинам, рекомендует сразу уходить от плохого мужа и не тратить на него время. Никогда не надо торопиться, лучше проверить.
Беседу провела: Ольга Жукова
Корректор-составитель: Юлия Захарова
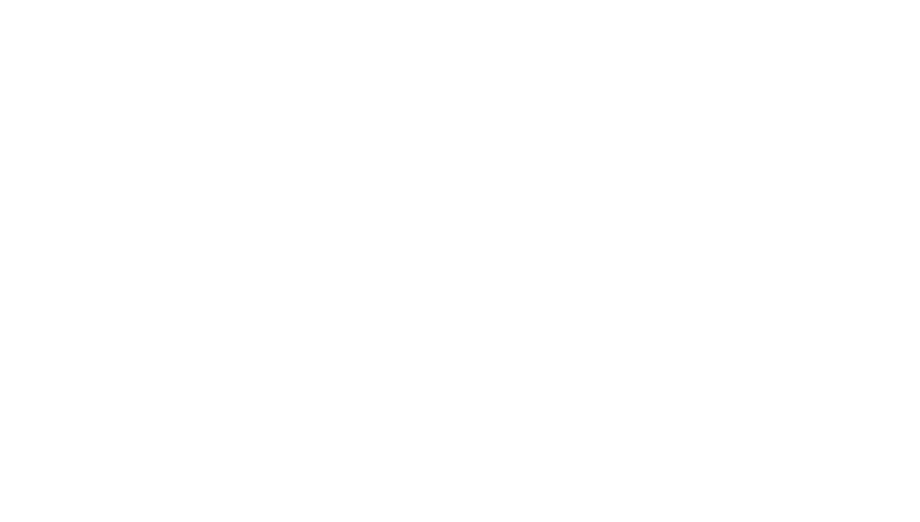
Балерина осаждённого города
Аглая Михайловна родилась в 1920 году, в Ленинграде, в семье музыкантов. Мать – Софья Михайловна Чернова – была пианисткой, закончила Ленинградскую консерваторию и вокальный факультет. Отец – Михаил Михайлович Чернов – был талантливым композитором, профессором Ленинградской консерватории. Михаил Михайлович умер от инфаркта в 1938 году. Восемнадцатилетняя Аглая тяжело переживала утрату.Со своим мужем, Александром Абрамовичем, Аглая познакомилась еще до войны. Он учился на химика в университете, потом поступил в консерваторию. В 1939 ушел на срочную службу в армию, был отправлен служить на Дальний Восток – и вернулся оттуда только в ноябре 1945-го, охранял советские рубежи с той стороны. Участвовал в короткой войне с Японией в 1945 году. С немцами Александр Абрамович не воевал и, как вспоминает Аглая Михайловна, очень переживал, что не попал на основную линию фронта. Но зато остался жив.«Он был удивительно талантливый человек, – рассказывает о муже Аглая Михайловна. – Мы переписывались стихами. Вернулся, закончил консерваторию, играл на рояле. Он был композитором, и его произведения исполняли в филармонии. Одновременно учился в актёрской студии. Умер он очень рано, в 53 года, от онкологии».Когда началась война, Аглае исполнился 21 год. Из города, вокруг которого постепенно сжималось кольцо блокады, девушка и мама уезжать не стали – нельзя было оставить бабушку, которая к тому времени уже плохо передвигалась. «Во время блокады она умерла, конечно. Умерли все мои тети, дяди, все мои родственники, но мы с мамой остались живы, как ни странно».До начала войны, в свои 19 лет, Аглая закончила хореографическое училище и попала в балетную труппу театра оперы и балета С.М. Кирова (после вернувшего себе имя Мариинского). Работу в театре молодая балерина продолжала и во время блокады, но не всегда по специальности. Вступила в отряд местной противовоздушной обороны, выполняла обязанности телефонистки. «Когда начиналась бомбёжка, людям запрещено было выходить на улицу, а меня посылали с донесением в штаб, я ходила всегда с противогазом».На смену голодной осени 1941 года в Ленинград пришла ещё более голодная и стылая зима. На улице – сорокаградусный мороз, в квартире – около пятнадцати градусов ниже нуля. В середине зимы в дом, где жили мама и Аглая, попал снаряд, на этаже сверху загорелась сажа. В их квартире на втором этаже рухнул потолок. Пожарные заливали огонь водой, потушили и спасли помещение от полного разрушения. Но вода на холоде застыла, и в квартире остались ледяные горы, которые не таяли до самой весны. Другую квартиру погорельцы получили только осенью 1942 года. Тогда свободных квартир было много, оставались пустовать после умерших людей. Бомбёжки, обстрелы, холод – это страшно, но самое страшное – это голод. Аглая боялась даже выйти на улицу – там везде ждала смерть. «Я запомнила одну женщину. Она шла мне навстречу и, казалось, что улыбается, а на самом деле у нее от голода уже свело скулы. Вдруг она упала – и всё».Запомнились Аглае Михайловне длинные очереди за хлебом в булочную, пайки по 125 граммов. Столярный клей, похожий на студень. Как-то раз на лестнице Аглая нашла замёрзшую грязную свёклу, принесла домой. Многие горожане ходили с коромыслами на Неву, в проруби брали воду. Аглая с мамой к реке не ходили – далеко, тяжело, нет коромысла, нет сил. Воду им заменял талый снег.Вторую зиму блокады Аглая с мамой провели вдвоём на кухонном узком диванчике, в шубах и сапогах. В новой квартире было много книг, плиту топили ими. На Выборгской стороне стояли деревянные дома, горожанам выдали ломы, чтобы их разрушить и унести доски для отопления домов. «Откуда были силы - не знаю, но мы работали. Я погрузила доски на санки, но как их везти? Снега по колено, дороги нет, да и могла бомбёжка застать, пока я шла домой – далеко ведь. Доски я не довезла, они упали с санок, так что ломала их напрасно». Аглая ходила на старую квартиру, рубила фамильную мебель на дрова и носила домой в руках.
Паровое отопление в их доме дали только под конец 1943 года.Весной 1942 года артисты труппы театра, оставшиеся в городе (а сам театр был эвакуирован в город Молотов, ныне Пермь), возобновили репетиции. Театр давал оперы и балеты – «Пиковая дама», «Эсмеральда» и другие постановки. Концерты шли в Театре Комедии на Невском проспекте, Филармонии, а затем и в полуразрушенном Мариинском театре. Работа по специальности, пусть и в таких страшных условиях, грела души артистов.«Надо было заниматься, а ни ноги, ни руки не действовали. Мы были буквально закопчённые от коптилок, растапливали на плите снег и отмывались. Потом гримировались, надевали костюмы и выходили к публике», – вспоминает Аглая Михайловна. Зрителей всегда было много. Зимой публика сидела в зрительном зале в одежде, оркестранты играли в перчатках. Артисты в составе концертных бригад ездили на Ленинградский и Волховский фронты. Давали смешанные концерты: чтение стихов, выступление музыкального квартета и два балетных номера, один из них исполняла Аглая Михайловна. Сцену на фронте взять негде: ставили рядом два грузовика, стелили сверху что-то наподобие пола, на котором и выступали артисты.Танцевала Аглая Чернова и для раненых в военных госпиталях. «Помню в госпитале палату, где была страшная вонь. Люди буквально гнили. Это было страшно. Там в палате я и танцевала».В 1944 году Ленинградский государственный академический театр вернулся в город. Аглая Михайловна вспоминает, с каким холодом вернувшиеся артисты относились к тем коллегам, кто остался в осаждённом городе: «Они считали, что мы немцев ждали и поэтому не уехали. Относились к нам очень плохо, затыкали нас, в номерах ставили куда-то назад. Мы были прямо врагами народа, хотя всё на самом деле было не так...»После войны у Аглаи и Александра родилась дочь Татьяна, молодая семья переехала в трёхкомнатную квартиру, где Аглая Михайловна живет до сих пор. Молодая балерина не только продолжала выступать на сцене Кировского театра, но и поступила в консерваторию на балетмейстерский факультет, стала педагогом. Аглая Михайловна преподавала в училище до 70 лет, за успешную работу была награждена медалью за трудовую доблесть и получила звание заслуженного деятеля искусств.
Ветеран: Чернова Аглая Михайловна
Автор: Анастасия Башмакова
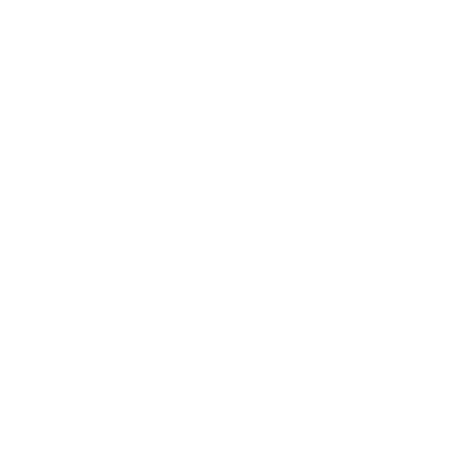
Нине Васильевне Шахновой 83 года. Три мирных года этих восьми десятков она почти не помнит – родилась в 1938-м. Что выпадет на её долю с 1941-го, даже представить не могла – до войны многодетная семья Нины (четверо детей) спокойно и счастливо жила в центре Ленинграда. Война изменила все. Как это было, Нина Васильевна рассказывает специально для нашего проекта.
– Нас, детей, у родителей было четверо. Дети родились один за другим, мама не работала, а вот папа, младший политрук Гаврилов, на момент войны состоял в Красной армии в отдельной разведроте на должности командира части.
Помню, как началась эвакуация города. В первую очередь транспортировали предприятия, всю промышленность и только потом – население. А что такое население? Это город и вся Ленинградская область, тогда ещё в нее входили нынешние части Псковской и Новгородской областей. На эвакуацию такого огромного числа жителей требовалось время, но его, к сожалению, уже не было... Нам повезло – нас успели эвакуировать.
Когда я находилась в эвакуации, ну что я понимала в свои-то 3-4 года? Однако какие-то отдельные кадры остались в памяти. Первое, что я помню – это город Углич. Очень богатая у него история, замечательная просто! Мы вместе с матерью, сестрой и братьями жили в деревеньке неподалёку, примерно в 20 км от города, где были свои поля и огороды. На них мы работали и благодаря этим полям имели продукты, хотя и здесь было голодно.
В колхозах состояли практически одни женщины – ну один или два мужика всего. И то: один без руки, другой безногий. Так что всё было на плечах женщин и детей….
Родители брали нас на работу в колхоз, потому что просто так получить продукты нельзя было - нельзя было просто взять что-то и накормить: «На вот тебе!» Пахали на лошадях, сажали картошку. Разжигали костер и немного картошки бросали туда. Какая же это замечательная печёная картошка была!
Лошадь идёт с плугом, отваливая таким образом землю, а мы сзади идём, на определённом расстоянии друг от друга, сеем семена. Отработали кружочек один – и побежали играть, дети всё-таки. Бригадир за отработку ставит всем палочки. «Делёж» происходил, когда урожай уже созрел. Начинает подсчитывать, сколько палочек с момента посадки до момента сбора урожая заработала семья. Итог подводит и делит общее.
А у поймы реки мы сажали капусту, она там очень хорошо росла, большие кочаны были. По этим палочкам собралось на всех столько капусты, что куча до крыши в сарае доставала. И вот мы её потом делили.
Еще одно воспоминание, которое до сих пор перед глазами, – воздушный бой. Играем мы с другими ребятами, а совсем рядом с Угличем проходила линия фронта и немцы сбили наш самолёт, и он рядом, в метрах трёхстах-пятистах упал прямо вот почти вертикально! Носом зарылся в землю, но не взорвался. Сразу приехали военные и оцепили этот район, забрали всё, что там сохранилось после крушения, забрали лётчика. Нам, детям, было очень интересно посмотреть на всё, но нас, конечно, не пускали. Но когда оцепление сняли, мы сразу сбежались туда – удивительно, самолёт так и лежал почти целёхонький.
Где служил в это время отец, я, честно, не знаю до сих пор. Ведь всё было засекречено, и за раскрытие любого местоположения очень строго наказывали. Иногда папа писал нам с матерью письма. Но без обратного адреса. Так что это были письма в одну сторону… Отец, правда, приезжал несколько раз к нам, когда попадал в госпиталь. Разведывательная рота – это же те, кто первыми попадал под пули.
Когда он так пришёл, мы с соседскими ребятами играли в лото во дворе. Тут-то мне и говорят: «Ты чего здесь бегаешь? Там твой отец приехал!»
«Где?!» – спрашиваю. А там идет тощий мужчина какой-то...
А на следующий день его уже не было, он уехал обратно в часть.
Как мы узнали о том, что закончилась война? Это сейчас телефоны у каждого, а тогда один телефон был на всю округу, даже не в каждой деревне. А вот лошади были... И вся информация из центрального сельского совета поступала через гонцов на лошадях.
И вот скачет мальчишка какой-то, вопит во весь голос: «Победааа! Победааа!» Кричит, руками машет. И всё, думаю, победа. Ой... Как люди радовались! Все выскочили на улицу, рыдали взахлёб просто, так все устали от войны, столько горя она принесла. У кого отец погиб, у кого кто. Потом в нашей деревне собрались все вместе: и маленькие, и дети, и взрослые – пели, танцевали и – всё время плакали.А вскоре отец прислал нам вызов, чтобы мы могли вернуться домой. В то время невозможно было просто взять и поехать в город: «Я тут прописана, я тут живу». Вас не пустили бы, въезд был закрыт. Отец прислал нам пропуск на всю семью, чтобы мы приехали. 1945 год, август... Мне уже 7 лет, я должна идти в первый в класс. На Садовой улице, рядом с Летним садом и Лебяжьей канавкой, находился наш дом. Это бывший доходный дом Вагнера, где жил Иван Андреевич Крылов. В то время город выглядел примерно так: народу, гражданских лиц, детей на улице было мало, одни военные. Пошли в школу, а школы ещё все закрыты были. Искали, искали, нашли. Она была у нас 202-я, на углу улицы Желябова (ныне Большая Конюшенная) и Большой Конюшенной площади, где венчался Пушкин. Тогда же мальчики с девочками учились в разных школах. Пришли в первый класс, собрали нас 40 человек. Все в ситцевых платьях… А у одной девочки оно и вовсе было перешито из солдатских брюк. Ничего же не было тогда, после войны. И тогда школа дала нам талоны на ткань, чтобы мы сшили школьные платья. На углу Большого проспекта и улицы Ленина на Петроградской стороне магазинчик тканей был. Он до сих пор там существует. Как сейчас помню, в талоне было написано: продать 2.5 м2 ткани на форму школьную. Мы с мамой пошли в магазин, купили там штапельное полотно коричневого цвета и черную ткань на передничек. Всё сшили, и вот бежим мы, девчонки, в школу: как же, показать надо красоту такую! Начали привыкать к мирной жизни…
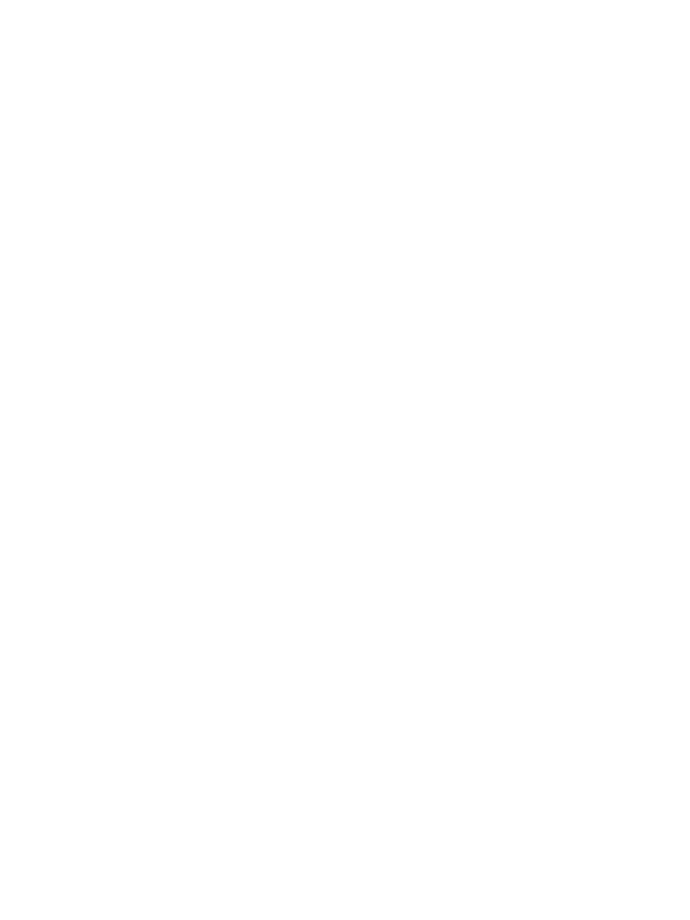
или
Ты-то чего довольная такая? Тебя не возьмут!
В наше время осталось не так много людей, которым пришлось воочию наблюдать войну. Увидеть своими глазами множество смертей как среди своих, так и среди противников на поле боя и после этого вернуться к прежней жизни — довольно сложная задача. Даже по ночам картины из прошлого могут портить сон, ведь воспоминания — тяжёлые и страшные. Но каково это — пережить войну, ещё будучи ребенком? Об этом нам расскажет Шкредова Лидия Ивановна, наша героиня.
В Ленинграде я родилась, в нём и живу по сей день. Однажды настали тяжёлые времена, когда всё погрузилось в хаос и разруху - времена блокады нашего города. Тогда я уехала из него и не знала, вернусь ли обратно.
Перед войной мы жили в полноценной семье, в которой помимо меня были ещё дети: братья и сестра. Тогда я была совсем маленькой, мне только исполнилось 5 лет. Мама работала в райкоме Большевистской партии, а отец — плотником на предприятии. Здание райкома по Кировскому району находилось на Невском проспекте, рядом с Аничковым мостом, а наш дом – ровно напротив.
С началом войны отец сразу же записался добровольцем на фронт и ушёл воевать. Тогда мама решила поехать в Псковскую область, подальше от города, чтобы снять там дом, в котором можно было бы переждать войну. Она нашла для нас большой особняк, где жила хорошая семья с двумя взрослыми сыновьями. Когда она вернулась за нами, у меня были сильно воспалены уши. Я рыдала, с ушей текло, и она договорилась с женщиной-арендодателем, что пришлёт остальных детей ей на временное попечение, пока не вылечат меня. Их отправили во Псков, а через несколько дней его сразу заняли немцы.
Я с мамой осталась в Ленинграде, впоследствии ставшем блокадным. Она продолжала работать, несмотря на то, что были страшные бои, стреляли, бомбили город. Я даже помню, что когда мы шли в поликлинику по поводу ушей, у нас над Фонтанкой, где цирк, один самолёт пролетал, а чуть дальше его сбили, и он не в воду упал, а обо что-то зацепился и повис.
Мама брала меня с собой на работу на Невском проспекте, рядом с Аничковым мостом, а наш дом – ровно напротив.
С началом войны отец сразу же записался добровольцем на фронт и ушёл воевать. Тогда мама решила поехать в Псковскую область, подальше от города, чтобы снять там дом, в котором можно было бы переждать войну. Она нашла для нас большой особняк, где жила хорошая семья с двумя взрослыми сыновьями. Когда она вернулась за нами, у меня были сильно воспалены уши. Я рыдала, с ушей текло, и она договорилась с женщиной-арендодателем, что пришлёт остальных детей ей на временное попечение, пока не вылечат меня. Их отправили во Псков, а через несколько дней его сразу заняли немцы.
Я с мамой осталась в Ленинграде, впоследствии ставшем блокадным. Она продолжала работать, несмотря на то, что были страшные бои, стреляли, бомбили город. Я даже помню, что когда мы шли в поликлинику по поводу ушей, у нас над Фонтанкой, где цирк, один самолёт пролетал, а чуть дальше его сбили, и он не прям в воду упал, а обо что-то зацепился и повис.
Мама брала меня с собой на работу, и я сидела там у окошка на подоконнике. Коней Клодта с Аничкова моста же снимали и закапывали в землю, чтобы не повредить такой памятник. И вот я видела, как их снимали.
Еды не хватало, питались одним хлебом, который выдавали маме на работе. Я не доедала и поэтому всю свою еду она отдавала мне. Помню, мать взяла меня фотографироваться.
Вскоре мама умерла - она скончалась в 1942 году от тяжёлой болезни. Папа получил справку об увольнении на 3 дня. А я в это время жила у тёти. Отец приехал на похороны, потом уехал обратно, а меня сдали в детский дом. Из блокадного города нас решили эвакуировать. Посадили в битком забитый товарный поезд на Финляндском вокзале. А перевозили в Нижнюю Туру Свердловской области.
По дороге нам приходилось то и дело останавливаться и бежать врассыпную по кустам, чтобы не пострадать от частых бомбёжек мимо пролетавших вражеских эскадрилий.
Самолёты летали настолько низко, что если пилот смотрел вниз, было отчётливо видно его лицо с большими квадратными очками. Этого я никогда не смогу забыть. Машинист, завидев самолёты, сразу останавливался, давал гудок. Мы выпрыгивали из вагонов и прятались. Воспитательница находилась постоянно рядом и говорила: «Держитесь меня». В одиmн из таких случаев, возвращаясь обратно, я потеряла туфельку, бегала искала. Воспитательница уже всех посадила на поезд и пересчитывала: — Раз, два, три, четыре, пять... Кого не хватает? Раз, два, три, четыре, пять... Кого ещё нет? — А там Лида туфельку потеряла, бегает ищет. И воспитательница iсразу за мной. Догнала, схватила меня крепко так. Было больно, я закричала: «Больно, больно, отпустите!» А она мне: «Поезд сейчас уедет, не будет же нас ждать. Ты чего?!» И в этот момент рядом разорвался снаряд, и мне осколок прилетел в голову, прямо в макушку попал. Кровь лилась, её много было - все волосы слиплись. И она меня закинула в вагон, мы поехали. Раньше поезда ведь другие были, не такие, как сейчас: всё страшно качалось, а мне голову стригли, где рана, чтобы забинтовать и остановить кровотечение, а я кричу: «Больно, больно!» Вот это я хорошо помню. Плешь на голове у меня была после ранения до 6 класса... Доехали мы и вот там жили до 1945 года.В это время моя старшая сестра, старший и младший братья жили в подвале дома вместе с самими владельцами, куда всех сослали немцы. Тётя Матрёша и её муж, староста деревни, потеряли сыновей. Их расстреляли, когда кто-то из предателей рассказал, что они входили в состав партизанского отряда. Среди оккупантов особняка был один офицер. Его конь никого к себе не подпускал, сильно лягался. Однажды мой брат, что постарше, нарвал травы и накормил ею коня. Офицер это увидел и приказал ему, чтобы тот его купал - дом стоял на холме, а внизу протекала река. И принёс брату для этого щётку. За это братишке отдавали объедки со стола, которые он прятал, а потом делился ими со всеми. Только благодаря этому они и питались.Не могу сказать чем, но нас кормили не только хлебом, были и супы... Но всё равно еды мало. На своих огородах старшие группы копали землю, сажали овощи, а мы, из младшей, потом её пололи.Отец участвовал в прорыве блокадного кольца под Ленинградом. Тогда были самые тяжёлые стычки, и он погиб. Похоронили его 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады. Но узнала я об этом лишь много лет спустя, когда появилась возможность навести справки, и благодаря одному из моих братьев, который в этом мне помог.Когда закончилась война, ночью мы спали. И тут меня ударили подушкой, разбудили и кричат: «Война кончилась, война кончилась!» Я взяла подушку и так же разбудила соседа. И такой мы шум-гам подняли, что соседи по деревне нас обворовали и украли всю еду. Нас, на тот момент уже старшую группу, за это сильно наказали: не давали ни воды, ни еды весь день. Младших кормили, они же не участвовали в погроме. Ребята все радостные, а мне говорят: «Ты-то чего довольная такая? Тебя не возьмут!» А у нас была воспитательница - Мария Абрамовна. В их дом попала бомба, и муж её тоже умер. Она сказала: «Если Лиду Калинину никто не заберёт, я удочерю её». Помню, что все детдомовские шли на посадку, чтобы поехать обратно в Ленинград, и вдруг меня позвали: «А ты чего сидишь? Одевайся, бери пальто и туфельки, ты тоже с нами поедешь». Я, конечно, очень обрадовалась. Приехали в Ленинград. Состав уже был пассажирский, с сидячими местами. Все сидели, ждали, пока их вызовут. «Иван Иванов, иди сюда, за тобой мама пришла». «Коля Петров, за тобой пришли». А я-то знала, что за мной никто не придёт, спряталась под сидения, в отсек для багажа. И вдруг меня позвали: «Калинина Лида, за тобой пришли. Калинина Лида!» А я не вылезала, я знала, что за мной никто не должен прийти. Бегали по вагону, смотрели — нигде нет. Потом уже додумались, куда я могла залезть, обыскали сидения и нашли. Я вылезать не хотела, так меня силком оттуда вытащили и повели за руку на выход. А там мамина сестра, тётя, которая меня отправляла. Я её узнала.
Оказывается, она услышала по радио: «Возвращается в Ленинград такой-то детдом…» Перечислили всех детей. И крёстная услышала: «Калинина Лидия Васильевна». И пришла за мной со своим братом. Вот так я вернулась в Ленинград.Инвалидов по Невскому проспекту очень много было: и без рук, и без ног, и кривыми ходили. А на дощечках сколько по Невскому милостыню просили... Немцы работали, восстанавливали дома. Однажды я проходила с ребятами мимо, а они стояли на первом этаже. Ласково смотрели на нас, улыбались и вдруг кричат: «Wie heißt du?» — «Как тебя зовут?» Ведь у них тоже дети, у них жёны, семья — они тоже их любят. Но я плевала на них, делая противную гримасу. Комната наша сохранилась, правда, в дом попал снаряд, но наша часть осталась цела. Тётя Катя сберегла квартиру и мебель, чтобы не растащили. Потом вернулись мои кровные родственники. Сестре сказали, что она будет жить в этой квартире. Её устроили работать портнихой в мастерскую и там прозвали мастером своего дела. Старший брат ушёл в ремесленное училище, а ещё закончил художественную школу и впоследствии расписывал Смольный собор, также готовил город к праздникам, был оформителем. Младший брат ушёл в Нахимовское училище, куда брали только детей-сирот. Дослужился там до полковника. А меня воспитали папина сестра и мой крёстный. А спустя годы я вышла замуж и родила сынишку.
Автор: Никита Миронов.
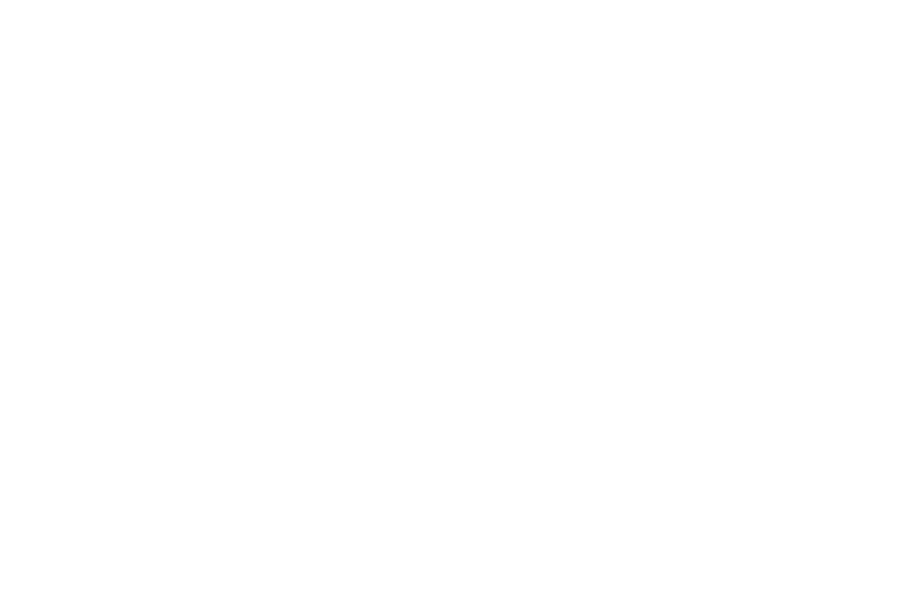
Снаряды «Катюши» на детских плечах
Граждане Белорусской ССР столкнулись с фашистским вторжением и оккупацией первыми. В конце июля 1941 года, после нескольких оборонительных операций, советские войска отступили на восток, и территория Белоруссии была оккупирована фашистами на долгие три года. Наталья Иосифовна Ширяева, будучи родом из маленькой белорусской деревни Конный Бор (в 150 км от Бреста), всю оккупацию провела в родных местах.
Летом 1941 года Наталья Иосифовна заканчивала шестой класс и вместе с братом и сестрой готовилась к школьным экзаменам. Всего детей в семье было пятеро: Наташа – самая старшая, а младшему братику на тот момент не было и года. Незадолго до начала войны дядя Наташи, военный, служивший в Ленинграде, приехал в гости. Девочка слышала, как он говорил маме, что вскоре мирному времени может прийти конец. Так и вышло.
В деревушке не было даже радио, и весть о нападении немецких войск на Советский Союз до местных жителей дошла не сразу.
«Идём по деревне, а нам навстречу верхом на лошадях едут два мужика и говорят: “Девчата! Война началась!”, – вспоминает Наталья Иосифовна. – А мы даже про Брест ничего не знали, как и вообще не знали, что такое война. Я, в первую очередь, стала прятать книги и пионерский галстук – всё в землю закопала».
Немцы приехали в деревню через десять дней. Задерживаться не стали – посмотрели на шесть хат, из которых и состояла деревушка, и уехали дальше. Но через какое-то время вернулись – и подняли оружие против мирных людей.
Однажды ночью обстреляли хату Ширяевых, но в тот раз смерть обошла их дом. Однако утром стало известно об убитой односельчанке: семиклассница Вера Тарасова пошла в партизанскую разведку и первой из своих поймала фашистскую пулю.
Вскоре фашисты стали по-настоящему зверствовать. Особенно жестоко обращались с мирными жителями поляки, латыши, литовцы, из которых в основном состояли карательные отряды. В семье Наташи было много потерь: погиб папин брат, папина сестра с мужем, ещё одну его сестру с ребёнком расстреляли на глазах всей семьи. Выстроили всех в ряд, тётю раздели на зимнем морозе. Немец сел на неё верхом и выстрелил в затылок. Тело убитой вместе с её трёхмесячным младенцем лежало на улице три дня, на глазах у дочерей. Старшие каким-то чудом перенесли этот ужас, а психика семилетней дочки не выдержала удара – девочка тронулась умом и вскоре умерла...
Отец Наташи, Иосиф Ильич, был освобождён от призыва в армию по состоянию здоровья – «всё время кашлял». Но он ушёл в партизаны, не сумев остаться в стороне. В один вечер оккупанты спалили все хаты в деревне, отрезав все пути к возвращению. Когда в соседней деревне под названием Октябрь загремели выстрелы, папа Наташи прибежал в деревню, он велел ей забирать детей и бежать в лес. Их дом, а точнее, уже пепелище, стоял близко к лесу, и детям удалось скрыться. А половину односельчан фашисты сожгли в лесу у другой деревни... Многие детали военного времени навсегда врезались в память.
«Знаете, некоторые немцы в моей памяти до сих пор остались, я бы и сейчас их узнала… Они ведь людей живьём сжигали. Вот, Хатынь, например… А у нас много таких деревень! И я всё это видела».
Семья жила там в эвакуации, поскольку партизаны держали под контролем целый район.
В августе 1941 года Наташе должно было исполниться 13 лет. Но отец прибавил ей год, когда шла запись вольнонаёмных в воинскую часть. Там девочка и числилась до мая 1946 года, помогая армии. Воинская часть № 53819 находилась в 60 км от фронта и относилась к Белорусскому фронту, через неё шли поставки оружия для самолётов. Ночью Наташа помогала разгружать прибывшие составы, грузы завозили в лес и маскировали.
С детским возрастом никто не считался: о том, что снаряды «Катюши» весят 87 кг, Наталья Иосифовна знает не понаслышке. Снаряды лежали в деревянных ящиках, которые из вагона подавали двое человек, а девочка должна была принять их на плечи. Наташа была меньше всех, и, чтобы она могла взвалить снаряд на себя, ей под ноги подставляли ящик.
При первой попытке снаряд упал через голову девочки – и «бум»! – вырвался из рук и разбился. К счастью, никто не пострадал. Иногда, наблюдая, как хрупкая девчушка таскает неподъёмные ящики, на помощь спешили командиры. Были среди них и раненые, освобождённые от военных действий, – кто без пальцев, кто без ноги...
Судьба простого человека в непростое время: в свои тринадцать повзрослеть за один день, принять на себя обязанности и нести наравне со всеми невероятные для подростка тяготы войны, не жалуясь и не требуя снисхождения...
Военная часть, в которой числилась Наташа, двигалась вслед за наступлением советских войск. Территория Белорусской ССР была освобождена от оккупации летом 1944 года, на тот момент Наташа была в городе Тильзит (Советск) в 100 км от Кёнигсберга.
В ночь с восьмого на девятое мая 1945 года вся часть проснулась от криков Саши Нарваткина, бросившего дежурный пост у аппарата, дабы сообщить счастливую весть: «Война кончилась!» Все в части уже знали, что война идёт к концу, но как радостно было выбежать на улицу и обнять друг друга, плача от счастья и облегчения!
После войны Наталья Иосифовна ещё год работала в своей части, демобилизовалась лишь в мае 1946 года. Переехала в Ленинград, где пять лет работала на хлебном заводе имени А. Е. Бадаева. Даже сейчас с улыбкой вспоминает, как наконец-то «поела хлеба».
Есть ли дети внуки? Чем занималась всю жизнь после хлебозавода?
Ветеран: Ширяева Наталья Иосифовна
Автор: Нина Басова
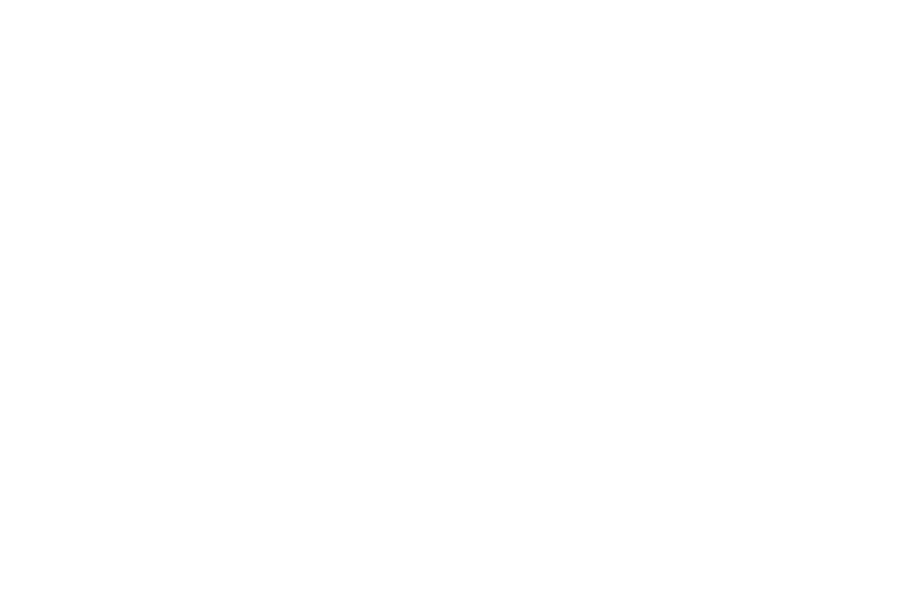
День начала блокады - 8 сентября 1941 г., когда фашисты взорвали Бабаевские склады, Тамара Владимировна запомнила на всю жизнь. Они с сестрой Лилей ждали 15-ый трамвай возле здания "Пяти углов" на Загородном проспекта, когда раздался страшный грохот, ставший роковым для жителей Ленинграда.
Ветеран вспоминает, что первое время не верилось, что это настоящая война, казалось, пройдёт пару дней и всё закончится, но к октябрю запасы продуктов незаметно исчезли.
Голод наступил с ужасающей быстротой, морозы стояли жуткие: "...еды не было совсем, и, чтобы как-то унять голод, мы с сестрой нашли в соседском помойном ведре косточки от компота и стали их сосать. А потом папа принёс откуда-то буржуйку, и я помню, как "125 блокадных грамм с огнём и смертью пополам" мы сушили на буржуйке".
Смерть подходила вплотную, соседи вокруг эвакуировались, несколько раз предлагали уехать и семье Еминых. Однако, сразу на всех мест найти не удавалось, и мама сказала: "Смотреть как умирает другой, я не буду. Или эвакуируемся все, или остаёмся".
Но к февралю 1942 года сестра Лиля настолько ослабла, что Емины были вынуждены эвакуироваться.
В эвакуации страдания перемежались с чудесами, благодаря которым и выжили. Случайная встреча в Ярославле с двоюродной сестрой Наташей. Знакомство с Томой, Лилей и Галей - семьёй с девочками-тёзками в Новосибирске, стало совпадением, сохранившим жизни Томе и Лиле Еминым - именно в этом доме их приютили и не дали умереть с голоду.
Тамара Владимировна - человек удивительной судьбы, которая на 97-ом году жизни верит в чудеса и, общаясь с ней, начинаешь верить в чудеса и сам. Пожелаем ей крепкого здоровья, отличного самочувствия и побольше положительных эмоций!
Спасибо за написание статьи и фото-, видеосъёмку Насте Башмаковой.
#перерывнавоспоминания #перерывнавойну #БлокадаЛенинграда #ветеранвов #тамараемина #перерывнавопоминания
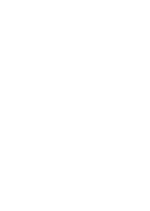
Жизнь в детском саду
Спустя некоторое время Володю устроили в круглосуточный детский сад неподалёку от дома. Родители постоянно работали, и Володя их практически не видел. Лишь изредка мама забирала мальчика домой на день, а на следующий день он был вновь в детском саду, под опекой воспитателей. Именно они и сыграли решающую роль в судьбе мальчика и других детей. Весь полученный хлеб воспитатели самоотверженно отдавали детям, а сами питались дурандой (кусками спрессованной шелухи от семечек). За столом сидели шестеро детей, перед ними ставили тарелку с хлебом. Горбушка считалась самой большой и вкусной, тот, кто её ухватил, был счастливчиком.
Во время воздушных тревог всех детей, построив «цепочкой», уводили в подвал дома напротив, в бомбоубежище. На лица детей надевали марлевые повязки, воспитатели объясняли, что с немецких самолетов могут пустить газ. И действительно, когда маленький Володя смотрел вверх, он видел, что самолёт оставляет после себя реверсивные следы, которые были похожи на газовую атаку. Уже после войны по радио Владимир Владимирович услышал информацию о том, что недалеко от Павловска в поселке Новолисино, в лесу был обнаружен склад с химическими снарядами, возможно, именно они были предназначены для обстрела Ленинграда.
Один праздник в детском саду Володе запомнился особенно. Воспитатели предупредили детей, что приедут солдаты и партизаны, поэтому нужно приготовить представление. Мальчишкам сшили костюмы, похожие на одежду кубанских казаков, а также вручили деревянные сабли. Ими во время представления на полном скаку мальчики должны были рубить ветки. Володю Турбина – самого рослого мальчика – назначили «командиром эскадрона». Когда наступил долгожданный день, зал был переполнен солдатами в гимнастерках и пилотках и партизанами в папахах с ленточками наискосок. Дети выступили искренне и задорно, очень старались. Зрители хлопали в ладоши, улыбались, а потом обнимали и целовали детей. Концерт удался. Остался в памяти и сытный обед с компотом. Продукты для обеда принесли в детский сад желанные гости. Кроме того, каждому мальчику солдаты подарили пилотку со звездой, которую в полуденный сон они засунули под подушку.
Старший брат
Мама весь хлеб отдавала детям – Володе и его старшему брату Олежке. Чтобы как-то заглушить невыносимое чувство голода, мама начала курить. «Помню, она была очень худенькой, хрупкой женщиной. Сейчас я даже не представляю, как у неё сил хватало на заводе работать», – отмечает Владимир Владимирович.
Однажды тётка повезла Олежку на санках в булочную, чтоб получить по карточкам положенные граммы хлеба. Оставила старшего брата на санках возле булочной, а сама заняла очередь. После того как она вернулась, ребёнка уже не было. Родители и во время, и после войны подавали заявления о пропаже сына, но всё было безуспешно. Мама до конца жизни хранила фотографию Олежки.
Конец блокаде
Новый 1944-ый год. В детском саду нарядили ёлку. Воспитатели, несмотря ни на что, старались создать детям праздничное настроение. Дети играли, водили хороводы. Воспитатели ненадолго отлучились, а когда вернулись, стали обнимать, брать на руки и целовать детей. К маленькому Володе подбежала женщина, обняла и с дрожью в голосе и со слезами на глазах сказала, что блокада снята и больше её никогда не будет. Мальчик не знал, что такое «блокада», но почувствовал, что произошло что-то очень хорошее.
Через год после войны Володя пошел в первый класс, а после школы работал на заводе «Большевик» и учился в институте по специальности «сварочное производство». «Всем хорошим и всей своей жизнью я обязан своим родителям и тому детскому саду, здание которого, так уж сложилось, я вижу из окна своей квартиры», – говорит Владимир Владимирович. Ветеран: Турбин Владимир Владимирович
Автор: Анастасия Башмакова
#Ленинград #Воспоминания #ДетскийСад
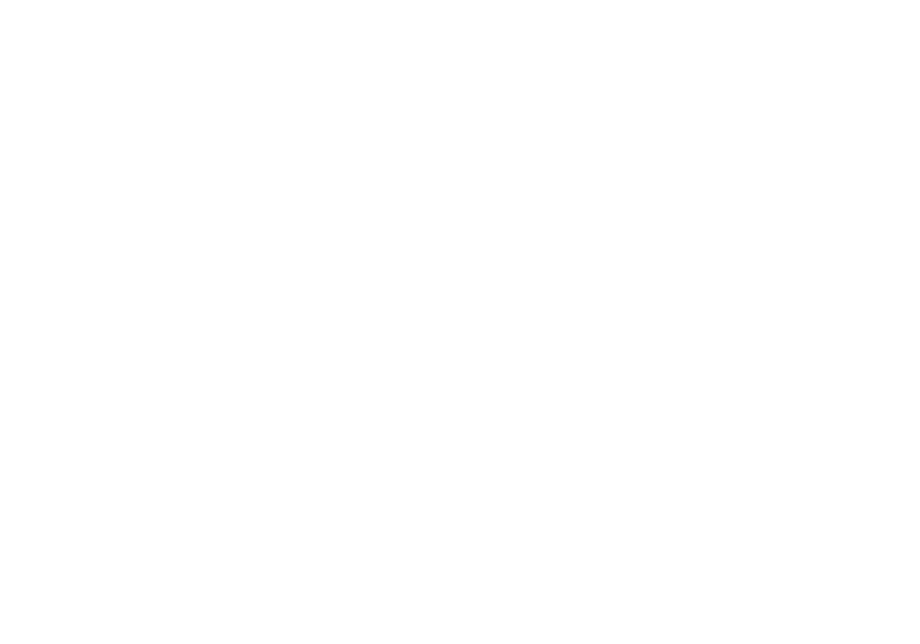
Ещё до войны отец Екатерины уехал в Ленинград на строительство Володарского моста. Он и сына взял – так приехал брат. Где сейчас Народная улица, был «Мостстрой», и строители Володарского моста жили там. Отец потихоньку всех вытаскивал из деревни Калининской области (ныне Тверская), где жила семья изначально. Сначала одна сестра уехала в Ленинград, потом другая и, в итоге, перебралась и девушка Катя. На комбинате Тельмана так и прошла вся их жизнь. Все трое – тельмановские!
Отца на фронт не взяли, так как он уже был пожилой человек и не годился для службы. На фронт ушёл брат Дмитрий. Он ещё Финскую войну прошёл, там уши отморозил и потом кашлял ночами. Сёстры его берегли, жалели. Дмитрий отслужил в армии и был в запасе, поэтому его брали на три месяца каждый год. Он и в 1941 году ушёл на три месяца. И, когда провожали, он сказал: «Катя, маленькую купи, прощальную, за расставание выпьем». С войны не вернулся.
Сёстры жили в деревянных бараках для рабочих, но им нравилось – было хорошо, как в родной деревне. Был общий коридор и по обе стороны комнаты. Выйдешь, а здесь травка. В магазин ходили – и, если была грязь, то были выложены деревянные мосточки и бежишь, как по деревенской земле.
До марта 1942 года сёстры прожили в бараке. На улице висел репродуктор и по нему сообщали всё: воздушные тревоги, отбой тревоги, сообщения о том, сколько, где и какие бомбы упали, что разбомбили. Передавали фронтовые сводки. Когда объявлялась воздушная тревога, то уходили в подвал барака, точнее – в подпол.
Отоваривали карточки по очереди. День сестра Мария ходила за хлебом, днём – Катя. Другой раз в столовую ходили. На карточки обеды покупали и приносили домой. Недалеко были совхозные поля, и девушки ходили туда капусту воровать. Екатерина Алексеевна вспоминает, что приносили кочан капусты, и, как вместо шоколадки, отрывали лист капусты и ели.
Во время войны цех, где работала Катя, остановили, и часть рабочих послали на пятую ГЭС грузить дрова. Некоторые ещё продолжали делать военное обмундирование, а другие — на погрузку дров. Тогда автомашины работали не на бензине, а на дереве — на чурочках таких — и эти чурочки нужно было грузить. Зимой было холодно, но был вагон, где топилась печка, и куда можно было ходить греться. Катя сразу сделала вывод, что, как погреешься, потом уже не сможешь работать, и не заходила в этот вагончик до конца смены. Как отработаешь, давали обед хороший — первое, второе. Катя брала всё в котелок и домой! Старалась не только себе, но и сестре. Девушки дружно жили, друг за друга, поэтому и выжили. Катя боялась, что Маруся умрёт, и она одна останется. И сестра боялась того же, потому и берегли друг друга.
А однажды Катя и сестра предупредили кражу в бараке. Их соседка работала на хлебозаводе. И, пока она была в смене, воры хотели к ней забраться через окно, но сёстры закричали и спугнули их. Когда соседка пришла, они её предупредили, что воры к ней лезли и, видимо, за ней охотились. Она боялась, что её убьют, так как она тучная была. А другая соседка говорила: «Смотри, ты ходишь такая! Тебя на мясо…» А кошек, действительно, не было, всех кошек съели.
В марте 1942 года, когда вновь открылась дорога по Ладоге, Катю и её сестёр – Марию и Александру – эвакуировали. Уже были полыньи на озере, да и враг ожесточённо бомбил идущие с людьми полуторки. Эвакуация планировалась на Северный Кавказ, но сёстры доехали до Ярославля, вышли, взяли билеты в Калининскую область и приехали домой, в деревню.
Деревня находилась в 180 км от Калинина, и до неё немец не дошёл. Девушки приехали и жили у матери. С питанием перебивались, как могли. Но председатель деревни был хороший и давал семье муку в долг с расчётом, что потом отработают. Так пропитались до мая, а в мае пошли на работу. Работали и отдавали долги за хлеб.
В один день, вспоминает Екатерина Алексеевна, в деревню пришла комсорг и сказала Кате, мол, вступай в комсомол. А девушка ответила, что не будет и не хочет вступать в комсомол – она христианка! «Тогда пойдешь на фронт», – такой последовал ответ. Но на фронт не отправили. Вышло распоряжение по набору людей на базу Главвторчермета для погрузочно-сортировочных работ. Катю туда и отправили – в Лихославль, на их филиал. Там она и отработала всю войну. Когда приезжала баржа, ездили эту баржу грузить. Приходил вторичный чёрный металл – орудия разбитые, запчасти всякие.
В Ленинград сёстры вернулись уже после войны, в 1946 году. Сначала вернулась старшая сестра, Александра, а потом и вторая сестра, Мария. Она спросила у Кати: «Будешь в Ленинград возвращаться? Приезжай!» Так друг друга вытащили.
В работе Екатерина Алексеевна всегда старалась быть на передовых. Стахановцы же были, соревновались, чтобы не отставать! Вначале прядильщицей работала, пряла нитки, а когда постарше стала, работу легче выбрала – чесальщицей.
Правда, государство никак её не поощрило, хотя Екатерина Алексеевна отработала всю жизнь на тяжёлой работе. Зато с сёстрами дружно жили и всегда помогали друг другу! У них никогда не было такого, чтобы ругались. Мать наставляла: «Шурка, ты старшая, отвечай за младших! Помогайте друг другу! На тебе обязанность». Шура так и исполняла.
#перерывнавоспоминания #БлокадаЛенинграда #личныеистории #тельмановские
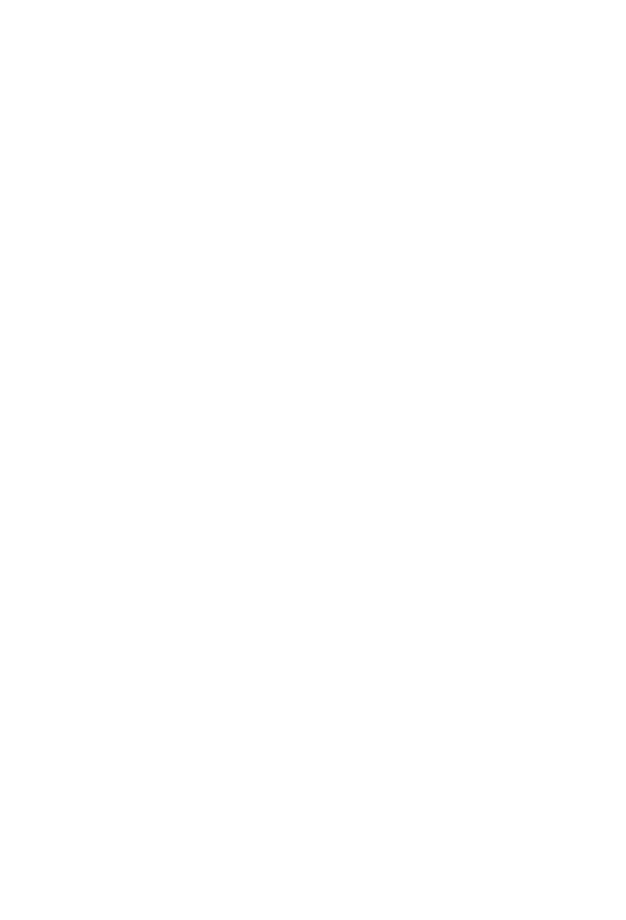
Сегодня Громова – почётный член Совета ветеранов Курортного района, регулярно участвует в проведении уроков мужества. Несмотря на весьма почтенный возраст (а нашей героине – 98 лет), Полина Дмитриевна даже участвует в спортивных состязаниях, поёт в хоре «Вдохновение» и является завсегдатаем местной изостудии. Но о том, что пришлось пережить, – помнит и рассказывает нам.
22 июня
Полина Дмитриевна родилась в пригороде Москвы, в селе Ромашково. В её семье было трое детей, Полина – самая младшая. Когда девушка окончила четырёхлетку в родном селе, её направили учиться в Москву, в недавно открывшуюся семилетнюю школу. После школы Полина окончила школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) лёгкой промышленности, стала швеёй. Но тут началась война.– В воскресенье 22 июня был солнечный день. Мне было где-то 19 лет, мы собирались с друзьями на танцы к лётчикам. Сидим на крыльце, чай пьём, всё нормально. И вдруг заговорило радио: «Говорит Москва. Все радиостанции». Отец говорит: «Неужели война?» Представляете? И тут радиостанция: «В 4 часа утра 22 июня фашистско-германская армия нарушила границы Советского Союза». Мы были ошарашены настолько – вам не передать, – рассказывает наша героиня.
Сначала Полину Дмитриевну определили копать противотанковые рвы под Москвой. Затем ей было поручено шить маскировочные халаты для разведчиков, норма – по десять в день. А вскоре она познакомилась со своим первым мужем – лейтенантом Аристарховым. Поженились они в 1942-м – несмотря на все тяготы военного времени.
Боевое крещение
В том же 1942-м Полину Дмитриевну призывают в Красную армию и направляют в Ленинград. В составе 30-ти таких же человек их перевозят через Ладожское озеро. Кунцевских девчонок – Лёлю Куликову, Настю Макарычеву и Полину Аристархову – определяют в 4-й дивизион 192-го зенитного артиллерийского полка 48-й дивизии на 18-ю зенитную батарею под городом Пушкин.Командиром батареи был Лев Александрович Громов. Только что прибывшим девушкам-бойцам дали время, чтобы осмотреться и приступить к обязанностям. Присматриваться долго не пришлось – уже буквально на следующий день был массированный налет на Ленинград.
– По тревоге нас подняли и кричат: «Подносите снаряды к орудиям!» «Откуда?» – показали. А снаряд – величиной в 70 см и весом 70 кг. Командуют: «Бегом подносите к орудиям». Но мы же не обстрелянные, не обученные, какое там «бегом»! Хватали эти снаряды, клали на плечо. Солдатики нам кричат: «Девчонки, не робейте, откройте шире рот, чтобы вас не оглушило!» И вот мы с раскрытым ртом туда-обратно бегали, подносили снаряды, – вспоминает Полина Дмитриевна.
Самое страшное – плен, а не смерть
На зенитной установке Полина стояла с Настей Макарычевой. Боевым навыкам учились прямо на поле боя. «Мы должны были тренироваться днем и ночью», – вспоминает зенитчица. Январь 1943 года был особенно тяжёлым для новобранцев: 6-го числа они попали на фронт, а уже 17 января 1943 года – начало прорыва блокады.Для отважной девушки в то время самым страшным было попасть в плен. Как-то раз, по воспоминаниям самой Громовой, её пытались «снять» с поста. Но она своевременно отреагировала. Этот момент – крадущиеся шаги за спиной – ещё долго её преследовал в кошмарных снах.
Но, несмотря на все ужасы войны, Полина Дмитриевна с улыбкой вспоминает некоторые ситуации.
Как-то раз, направляясь под обстрелом «по курсу» (как они в шутку называли уборную), девушка так и не дошла до него. Прямо перед её носом туда попал снаряд. А в 1944-м обстрел застал Громову в… колодце: девушка направлялась за водой, но ведро упало в колодец. Находчивая, она нашла лестницу и спустилась за ним. Именно в этот момент начался налёт. Не иначе под счастливой звездой родилась – Полина и ведро спасла, и сама спаслась, и товарищам воды принесла.
В годы войны Полине Дмитриевне приходилось и вытаскивать раненого командира с поля боя, и спасаться в только что вырытых окопах, и оборонять Пулковские высоты, и смело идти в бой с врагом. Оптимизм и находчивость выручали её всегда.
Ещё раз про любовь
Именно в 192-м артиллерийском полку Полина и встретила свою настоящую любовь. Командир долго не раскрывал девушке своих чувств. Но как-то раз, когда в 1944 году их батарея отправилась в уже освобождённый от блокады Ленинград для совместной фотографии, оставшись наедине после танцев, Лев Громов сделал ей предложение. Девушка приняла его – ведь к этому времени она уже разошлась со своим первым мужем, который забыл её на полях войны.Победа
Победа – одно из самых счастливых воспоминаний нашей героини. И в мирное время Полина Дмитриевна сохраняет те качества, которые помогли ей выжить на фронте: энергичность, жизнелюбие и оптимизм.– Вы участник Великой Отечественной войны, защищали небо Ленинграда, восстанавливали народное хозяйство, и сегодня продолжаете участвовать в общественной жизни. Мимо Вас не проходит ни одно значимое событие в районе. Ваше позитивное отношение к жизни, неравнодушие, желание заниматься творчеством, доброе отношение к окружающим притягивают к вам людей, которым вы помогаете даже просто своим присутствием, – сказала глава администрации района, поздравляя Полину Дмитриевну с её 98-м днем рождения.
#воспоминания #ВтораяМироваяВойна #Ленинградскийфронт #блокадаленинграда
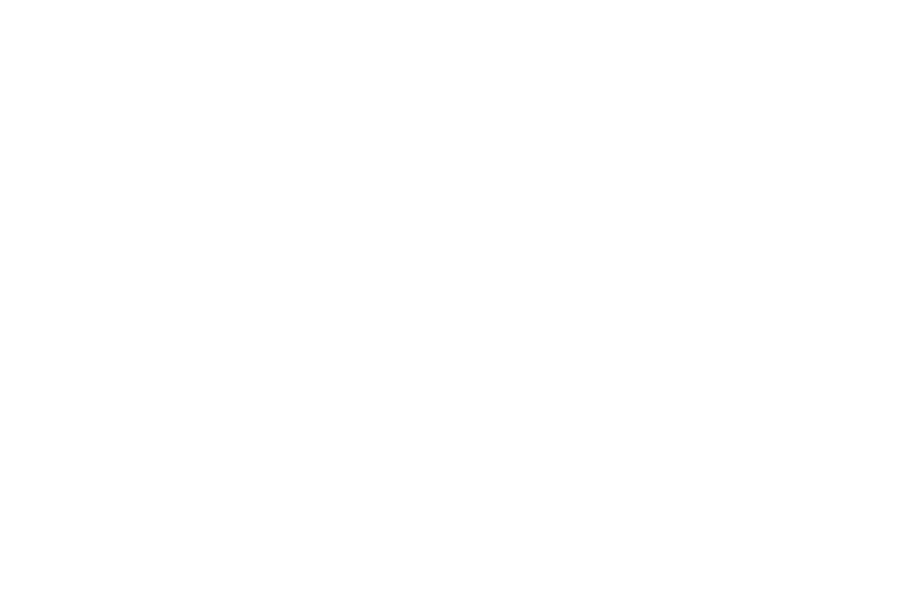
Война началась в воскресенье.
Я родился 1 декабря 1927 года в Одесской области, там и жил. Окончил школу с семиклассным образованием. Хотел поступить в техникум, нужно было отправлять документы. Мы с другими ребятами договорились сделать это в воскресенье. Идти надо было в районный центр. День был приятный, мы шли через лес, гуляли, в городе оказались только к обеду. Вдруг началась суматоха, люди бежали на площадь около школы, мы тоже подошли послушать, что говорят… А говорят, что война началась, Германия напала! Документы всё равно надо было отправить, поэтому мы пошли дальше. На полпути люди спросили нас, куда идём, мы рассказали, что так и так, документы надо отправить. А они нам: «Вы что! Не ходите! Киев уже бомбят!» Однако документы мы всё равно отправили в этот техникум. Вот так война и началась. Потом мы 4 года были в оккупации - Одесскую область захватили.
Нас освободили в 1944 году, когда нас начали мобилизовывать. Всех моих друзей начали призывать в армию. Я родился в 1927 году, а все мои друзья были на год старше. Я взял и прибавил себе один год, чтобы с ребятами идти на призыв. Отец у меня на фронте был, брат старший на Дальнем Востоке воевал, его судьба была неизвестна, живой ли вообще. Мать плачет, говорит мне: «Что ж ты сынок, отца нет, брата нет, я остаюсь тут одна, зачем тебе это, зачем прибавляешь себе один год, чтобы ещё и тебя призвали?» Я сказал маме, что не могу остаться, все ребята уходят. Нас с деревни тогда 22 человека призвали. И мы пошли пешком до Первомайска. Призывали нас через военкомат, как положено, всё официально было. Уже в Первомайске мы собрались, а дальше и не знали, куда идти. Остановились в свободном помещении больницы, стали ждать команды, куда же нас будут отправлять. Мама, когда узнала, где мы, пришла нас проведать, пришли и другие. Принесли подарки: калачей, хлеба, сала, колбаски. В то время, как они пришли, налетели немецкие самолёты и стали бомбить железнодорожную станцию, что находилась рядом. Люди в панике начали бегать туда-сюда, очень много наших призывников погибло в тот день. Мы с мамой остались в здании и не пострадали.
Потом нас отправили на станцию Дивово, это Рязанская область. Была организована учебная группа по подготовке призывников специальности, чтобы после отправить на фронт. Там казарменных помещений не было, а призывников таких, как мы, было много. Жили в шалашах, которые мы сами построили из ёлок. Разделились на группы по подразделениям, так и жили. Наш батальон готовили в миномётчики, я был наводчиком, ствол таскал. Затем заставили нас строить себе землянки. Ходили за дровами в лес, который был за 18 км от нас. Мы распределялись по 6 человек и несли на своих плечах эти бревна, и так все 18 км. Ну, а потом строили землянки.
Расскажу такой случай. Кормили нас неважно. Помню, что давали маленький кусочек сала да четвертинку черного хлеба, это был весь наш сухой паёк. Я был голодный, кушать хотелось, конечно же, я это сало и хлеб сразу же съел. А когда пришли туда за 18 км, нас распределили, кто что несёт. А народ по лесу разбрёлся, кто куда, ведь август был, грибы, да ягоды искали. Но ведь есть люди разные, кто-то разбирается в них, а кто-то нет. Я сам-то знал, вот и ходил, кушал сырые грибы. Ну, а по дороге, когда уже возвращались обратно к шалашам, мы встали на отдых в поле рядом с копнами сена. Когда дали команду подъём, оказалось, что нет половины людей, начали их искать. Оказалось, что народ отравился этими грибами. С моей деревни было 7 ребят, и я в том числе. Помню, что и Володя старый наелся этих грибов, и с ним тоже дурно стало. Когда мы уже пришли на место назначения, всех в санчасть положили, кто отравился. Вот этот Володька-то выкарабкался, а остальные 25 человек умерли.
Потом еще марш-броски совершали по 20 км с полной выкладкой, чтобы выносливость тренировать, вот такие кроссы совершали. Каждый ещё со своим оружием был, я вот с миномётом бежал. Ну, а спустя время, нас выстроили и отобрали ребят, которых уже подготовили. Но ещё никого не отправляли, а только распределили. Спросили, у кого есть семиклассное образование. Ну, я и вышел вперед из строя. Нас 7 человек было. Нам сказали, что нас отбирают и посылают на учение в танковую школу. Остальных через 3 месяца отправили на фронт.
Так вот, нас привезли во Владимирово в танковую школу, но там команду уже набрали, поэтому мы попали в Гороховецкие лагеря, это Горьковская область. Так как я имел 7 классов, то меня назначили в батальон по подготовке наводчика танка. Генка Филипповский был радист-пулемётчик в другом батальоне. Ришар Руденко был механиком-водителем ещё в одном батальоне. Все батальоны были разделены по специальностям. И вот, при этой подготовке в тылу было очень тяжело. Питания не хватало. Помню, как в столовую принесут буханку хлеба, а нас там 10 человек, ну её на кусочки разрежут и каждому так дают, чтобы никого не обидеть, чтобы каждый смог покушать. Вот в таких трудных условиях мы и жили.
Помню, как меня направили на заготовку овощей, там мы капусту сажали для нашей части, чтобы кормить людей с подсобного хозяйства. Там нам выдали химическую защиту и чулки. Ну, мы в чаны залезли, и давай втаптывать эту капусту. Там мы эту капусту ели, кто сколько мог. Я на радостях написал письмо матери, что сегодня праздник, капусты наелся. И вот наши родители, с Одесской области, во время войны, на разных переходящих самолетах, добрались до наших лагерей. Вообще, мы жили там в землянках, которые были построены на целую роту. Клопов там развелось очень много, они искусали меня всего, я даже выходил на улицу и спал там, чтобы избавиться от них. Так вот, когда мама и еще две женщины приехали, то привезли нам целый мешок продуктов. Они две недели у командира взвода на квартире жили. Моя мама, мама Гриши Руденко и мама Гриши Симоненко. Ну, они за две недели, что жили с нами, нас откормили, мы и поправились. А так как они нам муки привезли, мы там сами начали делать галушки, да в котелках всякое варили.
Кстати, а одевали нас в бытовую военную форму, которую до нас ещё носили. У меня вся форма в дырках была, шапка тоже. Вообще, учились по 11 часов в сутки, сидели как раз в землянках наших. Помню, как отдел разведки давал нам задания, надо было выучить наизусть всякое, мы это прозой называли. Так вот, кто не сдавал этот экзамен, то есть прозу разведки на память, тот ночью должен был сидеть в землянке и учить. Ну, нас со взвода было 14 человек таких, в том числе и я. Наш замкомандира взвода старший сержант Попов лёг в кладовке спать, ну а мы сидели и изучали всё это, а была зима и было холодно. У нас в землянке стояла бочка, из которой мы сделали печку, её соляркой топили, чтобы в помещении хоть немного тепло было, возле неё мы и грелись. Лампочки ещё с фитильками были, но потом дизельное топливо закончилось, и мы в темноте остались. Тут Попов просыпается в два часа ночи, а вокруг темно, ничего не видно, ну он и кричит «Подъём!», мы все соскочили, а он «Становись! Почему не учитесь?» Мы ему сказали, что света нет, кончился. Так он нас отправил к танку за топливом, чтобы лампочку зажечь. Сделали дело, снова выстроились, стоим. А я был крайний по правому флангу, так он меня и спрашивает, мол, Ткачук, давай отвечай, что выучил. На что я ему отвечаю: «Товарищ старший сержант, я днём-то не могу выучить, а ночью-то ещё хуже, голова совсем не работает». Прикрикнул он на меня: «Ах, голова не работает? На улицу шагом марш!» Вывел меня на улицу из землянки, а там снег, метель метёт, да холод стоит. Приказал лечь, я лёг, потом приказал по-пластунски вперёд ползти, я пополз. Ползу-ползу, ползу-ползу, из сил выбился совсем, дальше не могу, говорю ему об этом, а он мне: «Встать!» Я встал. «Ложись!» Я лёг. «Вперёд!» Я говорю, что сил нет, а он мне: «Ползи!» Я ползу. «Вперёд!» А я дальше не могу уже, говорю ему снова об этом. Он значит: «Ах, не можешь?!» Я поднялся, он снова приказал ложиться, а я стою. Он меня ударил, я аж упал. «Подъём!» Я поднялся. Думаю, что ж это за издевательство-то такое. Тогда Попов вывел всех ребят из землянки. Мне приказали снова ложиться. Я лёг, а то ведь все мёрзнут из-за меня, стоят. «По-пластунски вперёд!» Я пополз. Ну, прополз я метров 50 где-то, остановился, не могу дальше. «Вперёд! Ах, не можешь!» - он на меня набросился. Я опять думаю, что ж это за издевательство-то, ну и как-то взял его за ноги, да опрокинул. «Ах, так ты на меня ещё и руку поднимаешь!» - и потащил меня к командиру взвода. А он жил как раз там, где моя мама жила. Новиков его звали, рябой такой, два метра ростом. Ну, и стучится Попов к нему ночью, тот выглядывает, мол что случилось, а затем вышел на крыльцо в кальсонах, да раздетый по пояс. А ему говорят: «Да вот организовал учёбу, а они потушили свет, не стали учить». Ну, а я давай ему правду рассказывать, как всё было, командир взвода всё-таки, он должен знать, что тут за бесчеловечность творится. Так командир взвода на меня прикрикнул: «Ах, так ты жалуешься командиру взвода?!», и достает топор из угла, да обухом мне как вдарит в бок, я аж потерял сознание и сполз по стенке. Когда пришёл в себя, приказано было идти, ещё и пригрозили, что если хоть слово кому скажу, то не жить мне. Вернулся в землянку, а там свет горит, и ребята сидят, да зубрят этот раздел. Потом спрашивают меня, что да как, ну я сказал, что лучше пусть убьют меня, чем я буду так мучиться! Рассказал им всё, как было. Утром было собрание комсомольцев, там был замкомандира роты, старичок 1901 года рождения. Меня в то утро Попов назначил дневальным, а это надо было стоять на улице рядом с землянкой. Стою в одной шинели, холодно, да ещё и бок болит ужас как. Ко мне вышли, сказали, что зовут. А там политруки сидят, говорят мне: «Ткачук, расскажите, что с вами произошло?» Ну, я взял и рассказал всю правду. Попросили показать место, куда меня ударили, показываю свой бок, а он весь синий. В итоге, старшего сержанта Попова разжаловали и отправили куда подальше. Он-то был 1918 года рождения, все на фронте, а всё в тылу просидел. Потом оказалось, что нам было положено иметь табак, мыло, сахар и т.д. А он это все другим своим отдавал, а иногда для экзамена ещё и с нас собирал, чтобы комиссию подкупить. Выяснились и другие несправедливости, которые он делал. Положение было ужасное.
Вообще, делали так - танкистов формировали в экипажи, распределяли по эшелонам и отправляли на фронт. А там, когда в атаку шли, то танк могли подбить. Кто не сгорел и живой остался - направляли всех обратно в учение, а потом формировали новый экипаж и снова отправляли на фронт. Такие ребята нам рассказывали, что лучше уж на фронте быть, чем на учении, так как в тылу тяжелее. На фронте хоть убьют и всё, а в тылу - голод. Поэтому мы и рвались быстрее на фронт.
Помню, как первый раз нас сформировали в экипажи и отправили на завод танки получать, которые потом надо было загрузить на эшелон и лишь затем только на фронт. У меня командиром танка был младший лейтенант Дегтярёв, это был сын изобретателя пулемёта Дегтярёва. Этот пулемёт применяли на танках, в авиации и т.д. Севастьянов был механиком-водителем. Я был наводчиком орудия, а по званию - старший сержант. Заряжающим орудия был старичок 1906 года, в отцы мне годился. Нас одели в военную форму, мы получили машины, их надо было погрузить на платформы. Погрузка была торцевая, давался всего один час. Платформы вагонов подгоняют, а затем, чтобы доехать до начала эшелона, необходимо проехать метров 100 по этим пустым платформам. Наши механики-водители сели в танки. Первый поехал и свалил свой танк. У остальных тоже ни у кого не получилось. Ну, мы вернулись на завод и взяли специалистов-инструкторов, чтобы они погрузили наши танки. А этими инструкторами были мальчишки лет 12-13! Когда грузили мой танк, я решил остаться понаблюдать, как же этот мальчишка справится. А он раз-раз, если сил не хватает, так он всеми ногами и руками рычаг двигает, как вьюн там крутился. Ни на миллиметр с краю на свесился(?). Танки в итоге все погрузили. Нам выдали сухой паёк, а там колбаса в этом пайке сухая. А потом нам команда: «Экипажи, оставить танки без экипажа!» В итоге, танки на фронт отправились одни, а нас вернули обратно в школу учиться дальше.
Когда второй раз так загружались, уже и война кончилась. Поэтому я попал на шапочный разбор. Когда война закончилась, мы поехали в Германию, а там нас распределили по квартирам, где наши части должны быть. Я попал во 2-ую танковую армию. Экипаж у меня был тот же. В общем, продолжал службу в Германии. Питание наконец-то стало хорошее, ели, что хотели. Потом меня перевели, и я стал капитаном танка и заместителем командира взвода, а командиром взвода был Волкотрубенко.
Волкотрубенко назначали в другое подразделение, он мне говорит перед уходом: «Миша, давай мы с тобой обменяемся часами, ты мне свои, а я тебе свои». У меня были американские самозаводные часы. А ему часы подарил отец, который после захвата Берлина их заполучил, как трофей. Так вот, отец ему подарил эти швейцарские закрытые часы и именной пистолет. Потом выяснилось, что часы были самого Геббельса, а сделаны они были из платины. Жена потом Волкотрубенко ругала, мол, зачем подарок отца поменял на какие-то часы. Пока я был в кино, он приезжал, чтобы поменяться часами обратно, но встретиться у нас не получилось. Мне уже потом ребята сказали, что он искал меня. Про эти часы узнал начальник Особого Отдела. Говорит мне, что слышал о часах, просит посмотреть. Я снял их, дал посмотреть. А он смотрит так на меня, что я аж испугался, ведь это начальник Особого Отдела, заберёт и всё, никаких разговоров. А он мне говорит: «Вот видишь, у меня есть швейцарские часы с чёрным циферблатом, давай я отдам их тебе, а в придачу фотоаппарат ФЕТ и 800 марок, согласен?» Я обрадовался, конечно, согласен, куда денешься! Ну, мы с ним и обменялись. Часы он мне отдал тоже очень хорошие. Я потом на эти 800 марок купил себе аккордеон, так как любил музыку, и стал учиться на нём играть. Вообще, очень много было всяких таких эпизодов.
Потом меня перевели и дали 10 дней отпуска за хорошую стрельбу. Там я поехал в Воронеж к своей даме по переписке и женился на ней, звали её Вера. Свою жену привез потом на родину, я и слова про свадьбу не сказал. Ещё до этого мне написали, что мой старший брат женился на моей однокласснице, которую я любил и на которой планировал ещё с детства жениться. Ну, я был рассержен, перестал даже письма писать, вот и приехал с женой, никому ничего не сказав. Так прошёл наш медовый месяц. Вернулся в Германию уже женатым. Потом через год поступил в танковое Харьковское училище и получил там звание лейтенанта. Потом забрал жену, и жили с ней вместе 50 лет. Вот такая у меня жизнь!»
#ВтораяМироваяВойна #ЖизньСолдата #ВоспоминанияОВойне #ОдесскаяОбласть #ЛичныеИстории
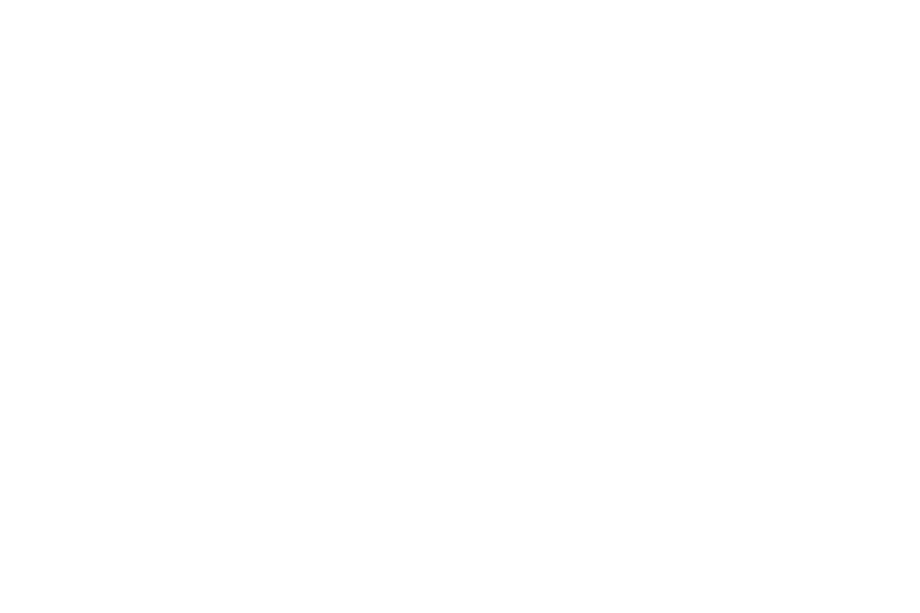
После окончания школы Рувим служил в погранвойсках на Дальнем Востоке – охранял границу по реке Уссури, приток Амура. Когда началась война, то пограничников стали отправлять на запад к линии фронта. По направлению молодой пограничник попал в 261-й полк 5 стрелковой дивизии НКВД. Пока в Ленинградской области формировался полк, Рувима отправили на 6-ти месячные курсы младших лейтенантов в Саратов. С обучения весной 1942 года он вернулся командиром взвода в звании младшего лейтенанта.
Взвод, как заградотряд, выдвинули на Северо-Западный фронт, который к тому времени проходил по линии Новгород-Шимск-Старая Вуокса. Еще в начале войны по приказу Сталина были созданы заградительные отряды, которые в случае бегства наших солдат с поля боя, останавливали их. Однако, как вспоминает Рувим Абрамович, когда они приехали на место, никого, благо, останавливать не пришлось.
Также шла активная борьба с диверсантами, дезертирами и шпионами. Ночами взвод прочесывал леса, перелески и проверял буквально каждый дом. Если документы проверяемого вызывали сомнения, то его отправляли в полевой штаб, чтобы разобраться, кто он и откуда.
В 1944 году, когда фронт стал приближаться к западным границам СССР, сформировали западные погранотряды. Как опытный пограничник, Рувим получил назначение в 14-й погранотряд Прикарпатского пограничного округа на Западной Украине. Здесь скопилось большое количество бандеровцев – украинских националистов, считавших советского солдата оккупантом. У них была политическая организация ОУН (Организация украинских националистов) и УПА (Украинская повстанческая армия). Также были свои уставы, форма, подразделения, начальники, а на телеграфных столбах висели листовки с призывом: «Долой советских оккупантов!». Бандеровские «оборотни» часто переодевались в форму советских офицеров, подходили к группе наших военных, просили прикурить, а затем стреляли в них. Либо стреляли в солдат Красной Армии из-за угла.
Рувим Абрамович вспоминает один из эпизодов: их погранотряд двинулся в Карпаты на уничтожение бандеровских банд и, когда колонна грузовиков стала спускаться в лощину, бандеровцы из засады открыли огонь. Погибли все 18 красноармейцев первой машины, в том числе начальник погранотряда – майор Зубко. Оставшиеся бойцы высыпали из машин и стали отстреливаться, пока бандеровцы не убежали в лес.
«А сейчас, – добавляет ветеран. – вижу по телевизору, как новые бандеровцы проводят на Украине свои шествия все в той же военной форме, и называют Бандеру и его прислужников – героями…».
Родители и его старшая сестра, как только в сентябре 1941 года по Ладоге пошли первые полуторки, эвакуировались в Алтайский край. Вернулись в Ленинград после снятия блокады в 1944 году, а после демобилизации вернулся в отчий дом и Рувим. Это произошло в апреле 1947 года. На выходное пособие он купил себе костюм и демисезонное пальто и пошел учиться в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП). Некоторые студенты – участники войны – ходили на занятия в гимнастерках и шинелях, так как другой одежды у них не было. В институте они и познакомились с Дорой Израилевной – будущей женой.
Когда началась война, девочке Доре было 13 лет, и она закончила 5 класс. Осенью 1941 года она должна была идти в 6 класс, но блокада внесла свои корректировки. Морозы, голод и обстрелы не позволили продолжать учебу в полной мере. В 6 класс Дора пошла только в 1942-1943 годах, когда обстановка в городе стала улучшаться.
Семья Наймарк, коренные ленинградцы, всю блокаду прожили в городе. Отец Доры работал на химкомбинате главным бухгалтером и плохо видел, поэтому его вначале призвали на службу, а потом отпустили. Мать шила наволочки и нижнее белье для мужчин. А старшей сестре, по окончании 10 класса, предложили учебу в одном из эвакуированных институтов. Она выбрала институт водного транспорта и по направлению поехала в Алма-Ату. После снятия блокады сестра вернулась в Ленинград.
Дора Израилевна вспоминает, что очень радовалась снятию блокады! Они с девочками пошли на площадь, где играла музыка, и всю ночь гуляли. Ленинградцы были приветливые, радостные, все друг друга целовали и обнимали.
В 1950 году Рувим Абрамович и Дора Израилевна поженились. Воспитали двух дочерей и сейчас воспитывают двух внуков и одного правнука. Дети и внуки постоянно звонят и приезжают к ним в гости. «У нас очень хорошая семья!» – радуются Абрамовичи.
Беседу провела: Анастасия Башмакова
Корректор-составитель: Юлия Захарова
#блокадаленинграда #бандеровцы #пограничныеотряды
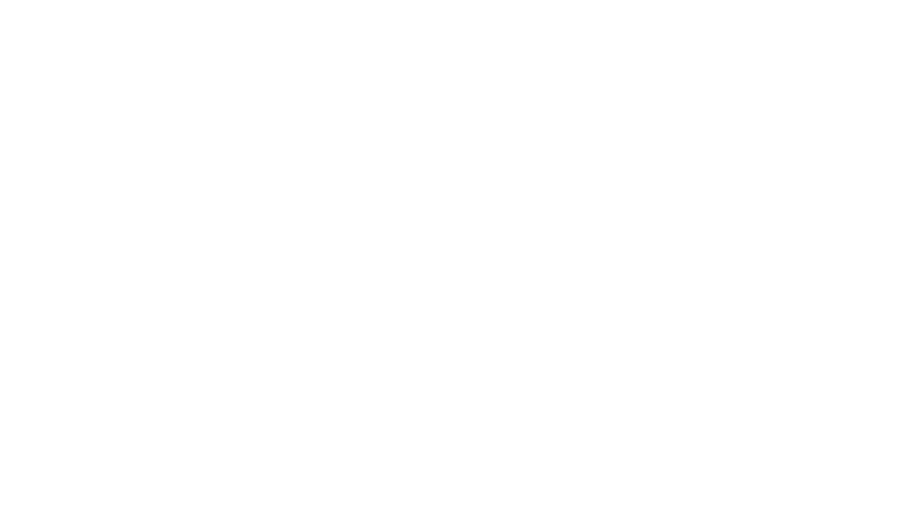
Войну я почувствовала дома. К нам постучала женщина, мама ее впустила. Женщина вся растрепана была. Я зашла на кухню, смотрю на нее, одежда на ней женская, а платком как будто прикрывается. Это дядька был. Я маме сказала об этом, чтобы она была осторожнее. А она не верила. Я побежала в сельсовет, председателю сказала, что у нас ночует мужчина в женской одежде. Я сразу это определила. Два мужика из сельсовета (они не могли служить уже, старики были) пришли к нам. Оказался действительно мужчина. Меня отблагодарили трудоднями. За каждый день ставили палочку – трудодень.
Однажды приходит письмо к нам от одного парня. Мама отправила меня за этим письмом. Надо было бежать 22 км. Я сбегала туда-обратно. Пришла домой без ногтей. Ногти слезли в кровь. Но письма не принесла, сказала маме, что его нет. Нам соврали, что там в письме что-то было про брата. Потом он вернулся, я не знаю когда. Я тогда служила на флоте, переписывались только.
Потом пришла повестка мне явиться в район. Я туда приехала. У меня были косы, толщиной с руку, ниже колен. Волосы были шикарные. Мне потом уже в Ленинграде, когда делали прическу, по три раза голову обматывали. Капитан мне сказал: «Приведите себя в порядок, снимите косы. Девочка пойдет служить». Остриг косы мне. Женщины, которые там были, завернули косы в газету. Они как две змеи были. Цвет белый, золотистый. Меня звали «золотуха». Потом нас отпустили домой, чтобы взять кружку, ложку и хлеба на три дня. Переночевали и поехали на подводах. На поезде до Кандалакши доехали, там немецкие самолеты, как воронье, налетели, начали нас бомбить, правда, поезд не пострадал. Бомбы сбросили и улетели. Нас посадили на поезд и отправили до Мурманска.
Нас привезли в Мурманск, в сельский совет. Там распределили в морское училище, на Абрам-мысу, в Кольском заливе. Поделили на группы. Было три группы: судоводители, мотористы, строители. Я попала в группу мотористов. Поучились полгода, потом на практику пошли. Уже со званием при выпуске были, поэтому я выходила как механик. Учеба закончилась, и нас назначили на корабли. Я была не просто матросом, а должна была вести судно. Была на руководящей должности, без мотора-то никуда. Пятнадцатый год пошел.
Когда мы проходили по минному полю, я стояла на полубаке, на корме, чтобы показывать капитану, куда идти. Флажков на корабле не было. Азбуку Морзе я знала. Мы ползли между мин, быстро нельзя было. Мины были рассыпаны, как горох, вокруг. После этого похода мне дали 15 дней отдыха. Поехала в деревню к маме. Парни натаскали рыбы, продуктов три ящика. Пока ехала на поезде до Вологды, ящики сложила на пол. Тогда не воровали. В Вологде высадилась, ехать не на чем. Стоит дядька. Напросилась к нему. Договорилась с ним продуктами рассчитаться. Пока до деревни доехала, ничего не осталось, все раздала. Только деньги привезла. Половина дней ушла на дорогу. Хотела маме сюрприз сделать, дождалась полуночи. Стучу, мама спрашивает: «Кто там?». Говорю: «Я». Мама зовет Леню, говорит, Лидка с армии сбежала. Не могли поверить, что меня отпустили. Показала документ, тогда поверили. А на утро попила чаю и поехала обратно. Как так?! Вот так. Такая была. Взяла необъезженную лошадь, взяла с собой Леню, чтобы он на этой лошади вернулся. Ехать 200 км. Приехали в Вологду, а поезда нет. Только товарняки. Пришлось с каким-то парнем на разных поездах с пересадками добираться. Но доехала вовремя. Я же моряк!
Однажды меня поощрили за большой поход, когда мы привезли немцев с передовой. Наш корабль должен был рыбу ловить и кормить береговых военных. Это была финская часть берега. Судно – рыболовное, называлось «Кировец», под командованием капитана Иудина. Он был женат, очень человечный. Все умел. Мы возили им всякие продукты и водку, а рыбу они сами ловили. И вот мы пришли туда, привезли людей для службы, провизию.
Пришвартовались и пошли искать дзот. А наши мертвые солдаты на снежной тропинке стоят, как столбы, облитые водой, вдоль всей дороги. Немцы их обливали и ставили там, чтобы знать, как к дзоту идти. Мы тоже по этой тропинке шли. Смотрели им в лица, видно же их подо льдом. Прошли между этих трупов до дзотов. Когда пришли туда, там ни одного нашего солдата уже не было. Они все вдоль дороги были выставлены. А в дзоте – немцы. Они тоже замерзли. Замотаны в одеяла разорванные. Они же не как наши были одеты. Немцы уже и говорить-то от холода не могли. Их 40 человек там было. Мы их расшевелили - и на корабль. Они очень рады были попасть в плен, иначе бы погибли от холода. Моя смена кончилась - каждые три часа менялись.
Никаких особо светлых моментов не было. Было так, что меня смывало волной за борт. Даже рана на ноге осталась. Все время работали. Когда швартовалась, меня всегда все встречали. Капитан говорил: «Лидочка, тебя встречают». Разрешали максимум час на берегу находиться. Те девочки, которые на берегу находились, строили корабли, яхты. Я брала рыбу, бутылку водки – и к ребятам с девчатами. Как морская царица с подарками. Они голодные, а мы хоть рыбу ели, правда, хлеба не было. Мы рыбу сразу сдавали, и ее увозили, даже в Ленинград. Мы даже Ленинград рыбой кормили.
Война – это херовина одна. Это гибель. Говоришь: «Господи, спаси меня» и идешь. Однажды пришли в Долину смерти, это река такая. Мы возвращались уже, но не хватило воды пресной. Мы пошли к реке этой. Подошли, а там вся вода красная. Это была кровь. Одна кровь. Голова, ноги, руки человеческие... Воды мы не набрали, так и поехали. До Мурманска шли без воды. Никого живого там не было, ни русского, ни финна, ни немца... Побоище.
Всегда верила, что победа будет за нами, потому что мы умные, боевые, сильные. А кто бы еще победил, как не Россия-матушка? Так и было. Северные люди вообще жилистыми были.
Как-то ночью мы рыбу сдали и пошли в Териберскую. Встали на рейд. Утром просыпаемся, а с берега кричат: «Победа! Победа!». Одни лопари там на берегу в скалах были. Русских не было, а они их почти и не видели. Поэтому всегда с любопытством смотрели на нас. На побережье сплошной песок, вода ушла. Я у них купила хорошую флягу литров на 10. Они их не сами делали, привозили. Они только шубы и чумы из оленей делали.
Всю войну мечтала о том, как после победы побуду дома, в Вологодской области, посмотрю на родных. Но после победы всех отпустили, а меня – нет. Моя война закончилась только 15 ноября 1945 года. Паспорт я получала уже в деревне.
После войны в Вологодской осталась только мама. Я вернулась с Мурманска, привезла маме деньги, продукты и два отреза, которые подарили англичане. Я была единственной девочкой на корабле. Приехала с очень большими деньгами. Тысяч сорок. Мне не нужны были деньги. В деревне мы же не пользовались деньгами, там трудодни. И тогда я купила 2 платья по 20 тысяч. У женщины, которая их продавала, больше ничего не было.
Когда приехала с флота, младшего брата собирали в Ленинград. Там, в Ленинградской области, жил другой брат, который с плена вернулся. Он с женой приехал сюда. А я должна была ехать на Украину, уже все было упаковано. Там моя двоюродная сестра жила. У меня диплом уже был тогда. Но тут нас забирают с братом на Финляндском вокзале и ведут в кутузку. Как здесь дети на вокзале оказались? Тогда такой порядок был. Но я сказала, что я не ребенок, а взрослая, и у меня есть документ. Я его показала, сказала, что воевала. Они удивились: у вас высшее образование, мы вас никуда не отпустим, вы нам в Ленинграде нужны, тем более морской флот. Мне разрешили только отвезти брата в Ленинградскую область и велели явиться в определенное время. Я брата довезла, Валентине и Саше сказала, что еду обратно, потому что меня там ждут. Саша уже работал в порту. Потом мы с ним там встречались. Я была начальником смены, а он – грузчиком, после плена.
После войны в Ленинграде все вокзалы были разрушены. Это сейчас все восстановлено. В Ленинграде мне дали комнату, 20 метров, два окна. В этих бараках жили немцы. Они их строили для себя. Немцы оттуда тогда еще не уехали. Я пожила у подруги. Тогда обменивали пленных. Не знаю, как, один к одному по-другому. Мне дали комнату в 19 бараке. Просторно, мебели нет. Я пошла ночью, набрала досок, сделала стенку, коридор –получилось 2 комнаты. Я общалась с девочками-судостроителями, они меня научили. Делала я все это ночью, чтобы соседи не видели. Хотя они слышали, как я стучу. Когда все закончила – обои поклеила, двери поставила, принялась за мебель. Кровать металлическую со свалки принесла. Решила сделать оттоманку, сама все замерила, смастерила. Шикарные подушки с вышивкой сделала. А диплом героя мне дали только сейчас».
#флот #моторист #заполярье
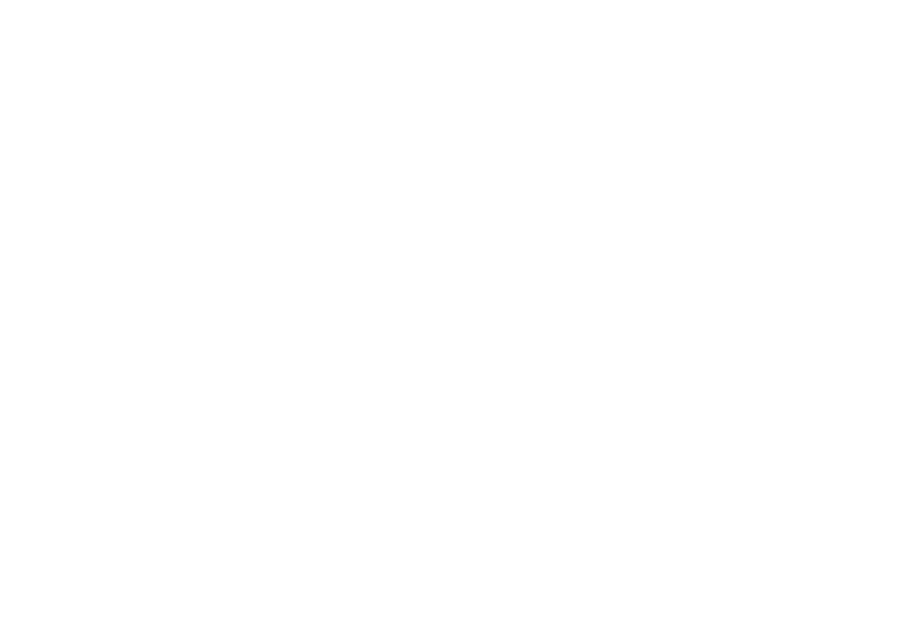
В доме Григорьевых всегда работало радио: Славик любил слушать разные передачи, новости, спектакли. И даже ребёнок знал, что СССР и Германия заключили пакт о ненападении, а потому не сомневался, что его родине ничего не угрожает.
После объявления войны в июне 1941-го в Ленинграде началась срочная мобилизация, а немногим позже стали поступать раненые. Большинство школ были спешно преобразованы в эвакогоспитали, где не хватало посуды, белья, одеял. Горожане отдавали всё, что только могли, лишь бы больные были обеспечены.
«Девочки, мои ровесницы, ходили в госпитали помогать по мере сил: вымыть больному лицо, покормить, поднести судно. Вызвать медсестру, если открылась рана…» Мама Славика тоже пошла работать санитаркой, а бабушка сидела с детьми дома.
В первые дни войны руководство города приняло решение об организации групп самозащиты в составе местной противовоздушной обороны. Ленинградцев обучали, как вести себя при бомбёжке, тушить зажигательные бомбы. Отряды рыли в городских парках щели-траншеи, где можно было спрятаться при артобстреле.
Подвалы домов переоборудовали в бомбоубежища, на чердаках устроили посты наблюдения. Подростки были официально зачислены в группы. «Мы вылезали на крышу, прятались за печными трубами и смотрели, куда летят самолеты, где бомбят. При случае тушили зажигалки», – вспоминает Владислав Григорьевич.
Вскоре в осаждённый город пришли мороз, голод, смерть… В один из зимних дней в квартиру Григорьевых постучали две участницы группы самозащиты. Попросили бабушку отпустить Славика подменить их на дежурстве в штабе – сил у женщин больше не осталось. Исхудавшему мальчику помогли одеться.
Контору штаба МПВО согревала железная буржуйка, у которой стоял стол и несколько стульев. А в прихожей Славик увидел несколько трупов, поднять и вынести которые никто уже не мог. Около умерших сновали крысы…
«Сказали мне: «Не бойся, они тебя не тронут, – вспоминает Владислав Григорьевич. – Ты будешь сидеть на столе, крысы к тебе не заберутся». Помогли забраться на стол, я лёг на него рядом с телефоном. Так несколько ночей дежурил в штабе, ждал звонка. Но при мне ничего такого не произошло. И крысы не съели…»
За хлебом в семье чаще всех ходил Славик. В один из морозных дней мальчик вновь отправился за пайкой хлеба и как раз стоял в очереди, когда в магазин вошёл закутанный в какое-то тряпьё неопрятный паренёк. «Он подошел к последнему в очереди и стал предлагать тихим голосом какую-то бутылку. Когда поравнялся со мной, я услышал его слабый голос: «Тебе нужен керосин для коптилки? Могу обменять на пайку хлеба». Керосина у нас не было, но хлеб был важнее. Я отказался».
Обойдя всю очередь, парень не нашёл желающих совершить обмен и вернулся к Славику. И вот, когда продавец отдала Славику его пайку, мальчик вдруг навалился на него и схватил кусочек хлеба грязной рукой. «Я инстинктивно сжал хлебушек одной рукой, другой оттолкнул нападавшего. Мы упали вместе, боролись, не выпуская хлебушек, а очередь молча наблюдала за поединком. В какой-то момент он разжал руку и выпустил хлеб. Я поднялся и, не оглядываясь, вышел из булочной. Осмотрел кусочек – он потерял форму, а там, где в него впилась рука мальчика, остались следы ногтей».
Придя домой, Славик ничего не рассказал родным о случившемся. Пока никто не видел, вырезал грязные следы ногтей, убрал эти крошки – но выбросить не смог. Потом съел…
«Теперь, когда прохожу мимо дома, где была та булочная, всегда вспоминаю тот день, – делится Владислав Григорьевич. – И думаю, какая же судьба ждала дальше того мальчика? Кем он был? Остался ли жив?»
В школу Славик снова пошёл только в апреле 1942-го, детей разных возрастов объединили в классы. Однажды одноклассник позвал Славика на рыбалку. Мальчишки накопали червей, наладили удочки и пошли к Кронверкскому протоку у Петропавловской крепости. В одном месте плавало очень много корюшки, и счастливые подростки принесли домой богатый улов. «Уже потом я стал думать, почему так много рыбы было только в том месте? Вспомнил, в кустах что-то длинное лежало… А это покойник был. И корюшка, видимо, питалась… А мы наловили, не думая».
Увидев улов, бабушка – поистине интеллигентная женщина – ответила юному рыбаку, что рыбу надо чистить и потрошить. Но Славик не послушался: «Что ж там останется? Я отказался. Поставил котелок, вскипятил воду и бросил всю рыбку туда. Запах-то какой был! Уха настоящая! И мы вдвоём с Наташенькой её съели, со всеми потрохами. Я ходил чуть ли не каждый день за этой рыбой. Может, благодаря ей и остался жив… А бабушка даже нюхать не стала».
Отец Славика всё это время трудился над созданием железных дорог, важных для военных задач. Когда железнодорожников отправили в Татарскую АССР на строительство Волжской рокады до Сталинграда, их семьи получили разрешение на эвакуацию, и Григорий Николаевич вызвал родных к себе.
Измождённую семью эвакуировали из Ленинграда в июне 1942 года. В товарных вагонах провели около трёх недель. «Запомнился мне эпизод… Я по привычке смотрел в окно с нашей верхней полки. И вижу, недалеко от полотна, на невысокой насыпи стоит на коленях пожилой человек, а перед головой у него – большая корзина с грибами. Он её повернул к нам и голову нагнул... Простой человек, русский мужик. Какое же чувство сострадания было в нём».
В Татарской АССР семья Григорьевых провела некоторое время, пока шла стройка рокады. Когда дорога была построена, по ней к Сталинграду перебросили войска и технику, после долгих и тяжёлых боёв город был освобожден. Железнодорожникам дали команду ехать в Закавказье, строить дорогу Кировабад – Дашкесан.
Путь состава лежал через только что отвоёванный город. «Я много чего видел в Ленинграде – пожары, разрушения, жертвы, – вспоминает Владислав Григорьевич. – Но то, что я увидел в Сталинграде… Город был разрушен почти до основания. Улицы завалены так, что редко где можно было проехать на грузовике, малочисленные горожане пробирались по узким тропкам. Поля на подходах к городу были усеяны техникой и оружием. Мы, мальчишки, во время стоянок выскакивали из вагонов и искали обломки винтовок, несмотря на ругань взрослых – так и на мину можно нарваться. Миновало».
Из Дашкесанского района Григорьевы уехали только в 1945 году, вернулись в Ленинград. Отца в скором времени вновь отправили в Томск, достраивать Байкало-Амурскую магистраль. Славик пошёл по стопам отца – закончил Ленинградский энергетический техникум по специальности топография и геодезия. Во время учебной практики участвовал в строительстве железной дороги Салехард – Игарка. А потом попал и на БАМ, когда строили его продолжение.
Награда за участие в обороне Ленинграда нашла Владислава Григорьевича спустя несколько десятилетий после войны. «Я и не думал ни о каких медалях, что было, то было. Познакомился с фронтовиками, а потом однажды встретился с самим генералом Лагуткиным, который в годы блокады возглавлял МПВО».
По просьбе Емельяна Лагуткина, Совет ветеранов МПВО нашёл в архиве документы о зачислении Славика Григорьева в группу самозащиты. В 1980-х Вячеслава Григорьевича вызвали в райисполком и вручили медаль за оборону города.
Владислав Григорьевич долгие годы активно участвует в деятельности организации «Юные участники обороны Ленинграда». В недавнем прошлом – главный редактор газеты «Вестник ветеранов», продолжать журналистскую работу, увы, больше не позволяет зрение. Две книги воспоминаний Владислава Григорьевича о годах блокады хранятся в библиотеках Петербурга.
Уже будучи взрослым, «юный защитник Ленинграда» посетил места, которые видел в эвакуации – съездил в маленькое село Баян в Дашкесанском районе, отправился в круиз по Волге вместе с супругой, увидел отстроенный Волгоград. И, конечно, видел, как оправляется от блокады и расцветает родной и любимый город.
«… В 2002 году была реставрация ангела на шпиле Петропавловского собора, его ненадолго сняли. Я тогда был знаком с директором, попросился подняться на шпиль, посмотреть на город. Он дал разрешение, и я поднялся до самого стержня, оттуда сделал фотографии. Всё как на ладони, город, пригороды! Красота…» Один из снимков с высоты шпиля над свободным городом висит у Владислава Григорьевича над кроватью.
#воспоминаниясолдата #оборонаЛенинграда #жизньвовремявов
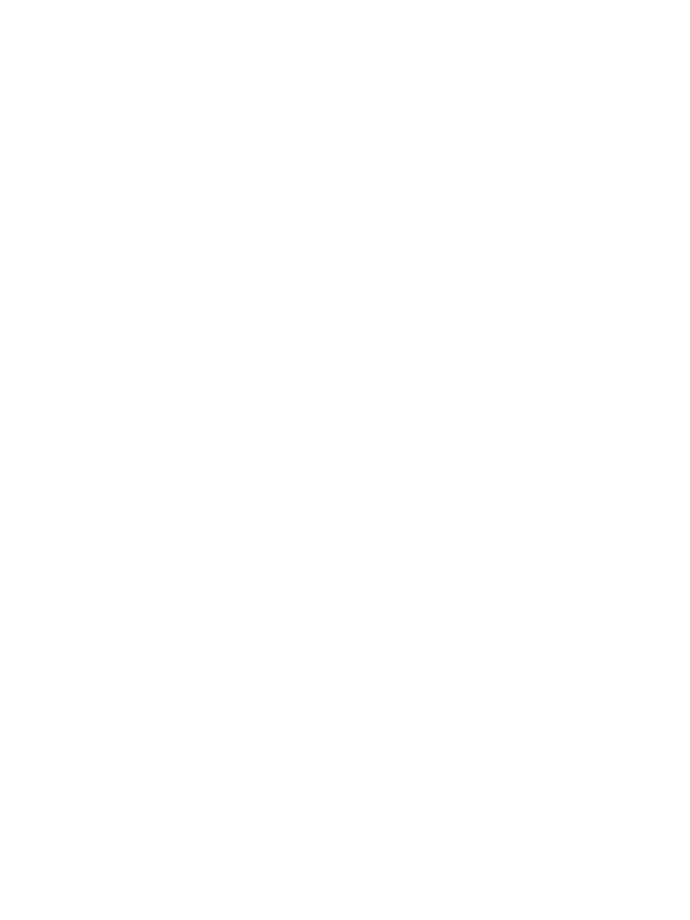
В январе 1943 года, когда Лазарю еще не исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Состав новобранцев отправили во Владимир, где молодой человек попал в минометную полковую школу. Через некоторое время после обучения младший сержант Арончук оказался в минометном полку, переброшенном в Прибалтику. К тому моменту на фронт поступила американская техника, появилась нехватка шоферов. За две недели Лазаря и некоторых его однополчан обучили водить машины, перевозившие минометы.
Задача минометчиков заключалась в установке орудия, наведении на указанную цель и пуске снаряда. Такие войска располагались в нескольких километрах от передовой, и жертв в них было меньше, чем в пехоте, шедшей в атаку. Но и среди артиллерии случались страшные потери. «Если прилетит ответная, то все... А то были случаи, когда мина еще не вышла, а вторую туда забросили. Миномет разрывается, и расчет гибнет», – вспоминает Лазарь Исаакович. Однажды, когда войска готовились выходить на передовую, начался обстрел. Мина взорвалась прямо на капоте машины Лазаря – «всю проводку пробило, разорвало, а мне хоть бы хны», – задумчиво улыбается ветеран.
Страх и смерть – не лучшие соседи, но у фронтовика нет выбора. Некоторых война ломала на глазах сослуживцев. «Друг друга там никто не подбадривал. Разве что сто грамм водки, которые давали ежедневно, стимулировали каким-то образом, – вспоминает Лазарь Исаакович. – Были среди нас очень трусоватые ребята, их обычно высмеивали. Это не здорово… Но солдаты – грубый народ».
Грубый или нет, но и на фронте было место чувствам и эмоциям. Однажды, пока войска стояли в Прибалтике, для солдат организовали показ кинофильмов. «Слышно, как недалеко стреляют, а для нас растянули белое полотно и показывают фильм, – рассказывает Лазарь Исаакович. – Это было потрясающе – кругом война, а ты смотришь веселый фильм про любовь, про балет на льду... Запомнилось на всю жизнь».
В апреле 1945 года советские войска вошли в Восточную Пруссию, в район Кенигсберга. Город был очень сложным узлом на пути освободителей. Минометы долго били по суровым укреплениям, однако, как вспоминает Лазарь Исаакович, сомнений в успехе у солдат не было – в каждом жил дух воодушевления и веры в близкий конец войны. «Солдат на фронте знает очень мало – только то, что перед ним. Стратегий и планов мы не знали. Но в скорой победе солдат не сомневался. Он не был уверен, что доживет до этого времени, но знал, что победа близка».
После взятия Кенигсберга полк, в котором служил Лазарь Исаакович, вывели в резерв и отправили под Краков. Путь до польского города лег через лагерь уничтожения Освенцим, освобожденный за несколько месяцев до того. Колонна солдат специально остановилась, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств фашистов: «Огромная куча человеческих волос, рядом куча очков, зубные протезы... Газовая камера – сам вид ее, ведь мы знали, что она из себя представляет. Где-то дальше – большой костер, в нем кости человеческие… Этот ужас мне потом долго снился».
Местное население польских городов относилось к советским солдатам по-разному. Под конец войны был случай, когда с караульного поста пропали несколько человек. «Было как на войне: идешь на пост и не знаешь, вернешься или нет», – рассказывает ветеран. Но когда закончилась война, жители Польши с радостью встречали советских солдат, обнимали, бросали цветы.
Новость о долгожданной победе ждали мучительно и не раз разочаровывались. Третьего мая радисты полка, где служил Лазарь Исаакович, перехватили сообщение польского радио, что война закончена. Радостные солдаты ждали эфир советского радио. И вот – объявляют важное правительственное сообщение. «Мы, конечно, все стойку сделали. А там о выпуске государственного займа сообщают. Разочарование было страшное...»
Ночью с восьмого на девятое мая у приемника уже не сидели. И вдруг – «Подъем! Внимание!» Лазарь Исаакович вспоминает эту радость, лишившую всех разума: «Что тут началось! Зенитчики вытащили орудия, стали стрелять в воздух, хватали автоматы. В это время двое даже погибли...»
Военный путь Лазаря Арончука на этом не закончился. Молодых солдат оставили за границей в скадрированных частях – международная обстановка в то время требовала быть готовыми к внезапностям. Техника и офицеры с младшими командирами оставались на местах. Лазарь Исаакович был перебазирован в Белоруссию до 1947 года и демобилизован только в марте 1950 года.
«Когда вернулся в Ленинград, пошел посмотреть на народ и все думал – счастливые люди! У них есть работа, семья, они весело и интересно живут. А у меня ничего, то есть ни любимой женщины, ни профессии, ни-че-го». Молодой фронтовик решил изменить свою жизнь: устроился электромонтером и испытателем электрических машин на «Электросиле», получил самый высокий, седьмой разряд. В школе при заводе окончил 9-10 классы, а затем поступил в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический факультет. Летом ездил на комсомольско-молодежные стройки и за хорошую работу получил путевку в дом отдыха в Сестрорецке. Там и встретил свою жену, Ирину Николаевну, с которой живет душа в душу и по сей день.
Автор: Кирилл Копырин
#минометчик #освенцим
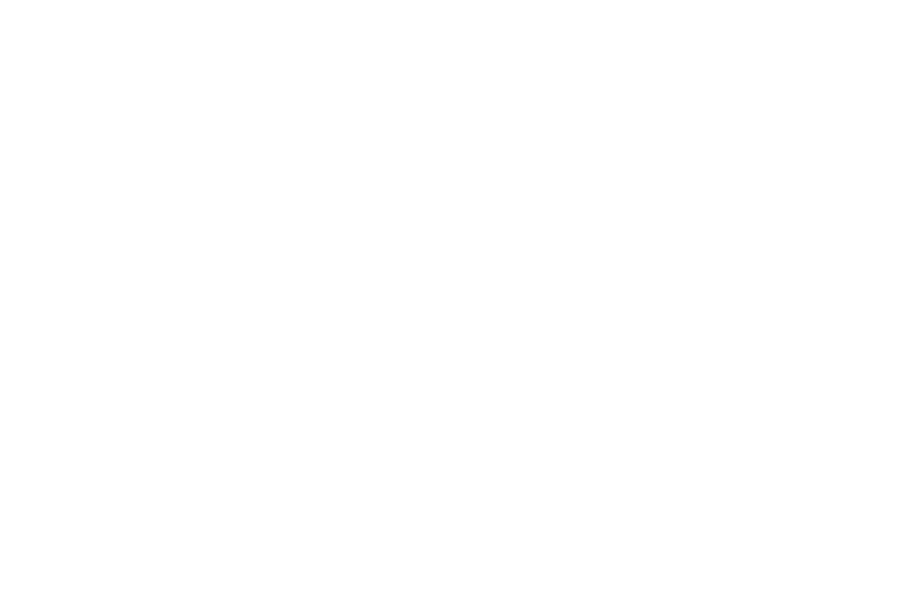
Мама работала в горисполкоме уборщицей, я иногда тоже туда ходила. Потом у нее с сердцем худо стало, уволилась оттуда. Мы с мамой еще ходили работать в поликлинику. Там главврач мне сказала: «Смотри, как другие делают, так и ты делай!» Еще во время финской войны мама брала меня с собой на вызовы, мне тогда было 13 лет, и я в этом возрасте научилась делать уколы. Это мне пригодилось. А еще во время войны я была донором.
Мой младший брат все ходил по улице и напевал: «Внимание! Внимание! На нас идет Германия!» Многие ребята ему подпевали. И надо же – именно с Германией и началась война. Мне тогда было 16 лет, а моим братьям – 19 и 20 лет соответственно. Их сразу отправили в Петергоф. Никто ничего не знал. Я осталась дома. Помню, как вышла на улицу, а тут к моим ногам вдруг упал самолет. Конечно, я тогда понимала, что идет война, но это было мое первое знакомство лицом к лицу с ней. Я тогда подошла к кабине и заглянула внутрь, летчика там не было, это меня успокоило. А потом все началось… Самое страшное было после пожара на Бадаевских складах. Горели они не один день и не два дня, долго горели. Небо было освещено прожекторами, постоянно летали самолеты, стреляли наши зенитки. Все время шли бои в воздухе, там, наверху! Но мы все-таки жили в таком месте, где самолетов летало меньше.
В самом начале войны разбомбили наш полигон под Сестрорецком. И вот, когда это произошло, то ночью отца и других солдат, а также моих двух братьев, отправили строем по шоссе на фронт – я в это время спала, а они ушли… Первое письмо от отца пришло 31 декабря 1941 года, оно было и последнее… И все, все кончилось, больше мы о нем не слышали. В военкомате говорили, что он пропал без вести. Я о нем больше ничего не знаю. Мне тогда было 16 лет, так что я его помню. Он меня очень любил. Звали его Георгий Иванович, и когда он ушел, ему было 43 года.
Мои братья были как близнецы, очень любили друг друга и не отставали друг от друга. Но в 1942 году, в феврале, почти сразу же после демобилизации, мой старший брат Михаил погиб. Петр впал в депрессию и начал курить, а после войны так и продолжил: курил очень много, от чего и умер. Когда солдаты узнали о горе Петра, то стали помогать ему, всячески его поддерживали и не оставляли одного, иногда подливали спиртного. В итоге вывели его из этого ужасного состояния. Петр получил ранение, но до Берлина дошел. А после войны, когда вернулся домой, стал работать на заводе. Он проверял точность танковых орудий. Так он там и проработал до конца жизни.
Когда на нас напали финны, начались ужасные бои. Мы остались вдвоем с мамой, ее звали Мария Осиповна, она была помладше отца. Еще у нее было больное сердце. Вообще, все вокруг болели, витаминов не было, иммунитет падал. Моя двоюродная сестра тоже заболела - ее потом эвакуировали. Помню, что за нашим домом было колхозное поле, там росла картошка. Мы с мамой пошли копать поле, надеялись найти картофель. Соседи тоже пошли. Пока копала, ко мне подошел какой-то военный, не знаю, какого чина. Он спросил меня, из какой я семьи, спросил также про каждого члена семьи, видимо, хотел тоже забрать, но почему-то не забрал.
Когда была первая зима, мы с мамой вдвоем остались, мужчины наши ушли, вот мы и выживали как могли. Народ стал ломать и разбирать некоторые дома. Мужчины в основном разбирали и пилили доски, а женщины носили их. У нас я носила деревяшки, ими мы топили буржуйку. Таскать все это было очень тяжело, наш дом стоял далеко и отдельно ото всех. До сих пор отголоски этой тяжести дают о себе знать.
Если были бомбежки, мы спускались в подвал, да и то не всегда. За водой мы ходили на озеро, оно было рядом. Зимой там делали проруби. Вода была чистая, хорошая, никто не болел после нее.
Однажды зимой я скатилась с полотна Печорской железной дороги вниз, ведь снег никто не чистил. Это выбило меня из колеи, я была немного не в себе после падения. Но я встала и пошла дальше. А одна женщина это увидела и привела к себе домой. Там она усадила меня на кухне и давай меня отпаивать чаем, пока я в себя не пришла. Потом мне люди показали дорогу, куда идти, чтобы я не заблудилась. Во время войны часто так вот все помогали друг другу.
Мама все ходила по разным местам и пыталась найти мне хоть какую-то работу, но нигде ничего не было. Однажды она познакомилась с некой женщиной, которая работала на молочной кухне, туда меня и устроили работать благодаря ей. В итоге у меня была карточка служащего, по которой я получала еду. Каждый день шофер привозил молоко, его мы раздавали детям. Также раздавали очень питательную смесь, в состав которой входили мука да то же молоко. Молоко и смесь разливали в маленькие бутылочки, а потом я разносила эти бутылочки по домам: мне давали адреса, где живут дети. Благодаря такой питательной надбавке многие дети выжили. Потом я забирала уже пустые бутылочки. Иногда люди меня приглашали к себе домой и поили чаем.
Так как у нас с мамой были карточки служащих, нам и норму такую выдавали. За хлебом я ходила, как часовой, в Парголово на трамвайную остановку. По этим карточкам нам давали 125 грамм хлеба, это нам помогало.
Жили мы с мамой в домике, у нас также имелся участок земли, который нас очень спасал. Мы там всегда что-то да выкапывали, у нас всегда была какая-никакая еда. Еще нам помогали евреи, потому что моя мама была похожа на еврейку. Они всячески старались помочь друг другу и нам. Однажды они привезли нам пшеничные отруби, из них можно было приготовить лепешки. Пекли такие лепешки мы потом долго, даже брат к тому времени уже вернулся. Никаких расстройств кишечника у нас не было, в этом нам повезло. Помню, как нам кто-то дал несколько штук семян кабачков да целую помидорину. Мы посадили эти семена и потом ухаживали за ними, так у нас появились кабачки. Еще помню, что у меня на тот момент была экзема, все руки были в ней, работать невозможно, постоянно мазала чем-то и бинтовала, но не проходило. Однако, как только я скушала этот помидор, все на руках вскоре прошло! Видимо, витамины в организме появились, вот я и вылечилась.
Вообще, во время войны лечились как могли: и ультрафиолетом, и таблетками, и даже внутривенными препаратами, если это было необходимо. Были всякие фельдшерские пункты – куда тебя отправят, туда и идешь. Сколько страданий людей я там увидела, не передать! Было очень тяжело. Постоянно поступали раненые. Вот раненый солдат лежит и говорит мне: «Сестра, подойди ко мне, подай мне руку». Я подхожу к нему, подаю руку, а его рука понемножку-понемножку начинает охладевать. Все холоднее, холоднее и холоднее… Потом сама сползает и падает вниз. Сколько таких солдат я видела, просто ужас. А сколько было безногих. Ковыляют все по шоссе и улыбаются мне: вот без ног, в коляске, а улыбаются, это невозможно было! Как я могла смотреть на них, чтобы они мне улыбались? Война мне снится до сих пор, одно и то же, спать нормально не могу. Прямой наводкой, пли! Вот так ночь проходит.
А вот когда был День Победы, все люди выбежали на улицу. Молодые ребята громче всех кричали: «Чтобы сдохли все соевые коровы!» – это самый был громкий крик. Но даже такое молоко спасло многим жизнь.
Еще в поликлинике я решила стать детским врачом. А после окончания института мне дали военный билет. Там написано, что я лейтенант медицинской службы».
Автор: Елизавета Капралова
#ребеноквойны #Ленинградскаяобласть #голод
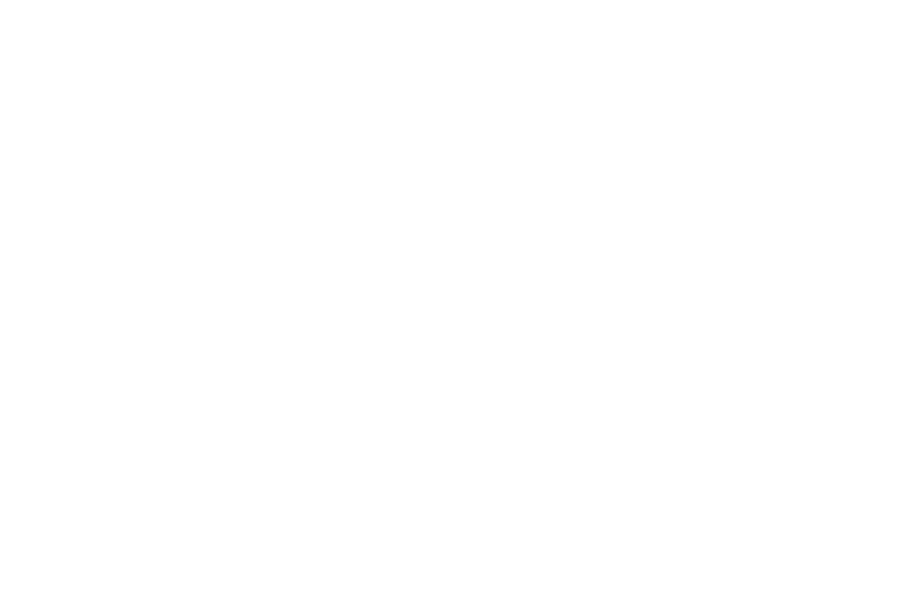
«Я не очень хорошо помню войну, не помню, был ли парад Победы, не помню, кричали ли мы «ура». Воспоминания сохранились обрывками, больше всего запомнились эмоции, – погружается в мысли Алла Семеновна. – Мне три годика, мне холодно и больно. Я опускаю глаза, там маленькие, детские, босые ножки, а под ними – замерзшая буграми земля. Я ходила на внешней стороне стопы, не могла от боли поставить ноги прямо, как бы кособочила ими. Ножки очень болели, были покрыты нарывами от фурункулеза, а еще тогда у меня был рахит».
Семья Аллы жила у бабушки, Татьяны Николаевны Мельчуцкой (Ткаченко), у которой было своих семеро детей, младшая дочка была старше Аллы всего на три года. Да еще старшая дочь с двумя детьми приехала… Еды толком не было, все голодали. Мама и тетя Аллы ходили по зажиточным хуторам, выменивали вещи на продукты и приносили бабушке. Ребята постарше отлавливали воробьев: подставляли под большое бабушкино сито палочку и что-то сыпали в качестве приманки, а когда птички залетали под сито, выдергивали палочку за веревку и закрывали ловушку. После бабушка варила из этой добычи суп. Маленькая Алла выщипывала из мокрых воробьев перышки – «они были такие тугие, помню, что было очень больно пальчикам».
Бабушка рассказывала потом, как Алла после приема пищи, когда все дети и взрослые уходили из-за стола, залезала на стол и вылизывала все миски, чтобы добыть лишнюю крупинку. «Я до сих пор ощущаю это послевкусие, такой сладковатый вкус. Бабушка еще шутила, что после Алки нужно было только слегка ополоснуть посуду, так тщательно я вылизывала миски».
Отец Аллы, капитан гвардии и командир артбатареи, бил прямой наводкой фашистские танки. Воевал на Южном, Западном и Северо-Западном фронтах. Участник обороны Москвы. «В 1943 году он написал маме с фронта, попросил прислать фотографию детей. А мы голенькие всегда бегали, нечего было надеть, нужно было что-нибудь придумать, чтобы на фотографии выглядели более-менее прилично. Мама порвала свою старенькую рубашку и сшила нам трусики. Это была первая фотография, которую мы отправили папе на фронт», – вспоминает Алла Семеновна.
Дети в военные годы играли только в спокойные игры, на беготню не хватало сил: водили хороводы, «ручейки», пели песни. Алла Семеновна помнит тряпичные игрушки из полотенец. И первой, настоящей игрушкой девочки стал цилиндрический калейдоскоп, который привез папа по возвращении с фронта.
В 1943 году в Краснодар пришли немцы. В доме Алиной бабушки тоже поселились несколько фашистов. Девочка слышала немецкую «лающую» речь в доме, но, конечно, не понимала, о чем они говорят. «Однажды немец решил угостить меня конфеткой, я сидела на руках у тети. Он протягивает конфету, я тянусь ручкой, он отдергивает руку, хохочет и что-то говорит сослуживцам, они тоже хохочут. Так повторялось несколько раз, пока в моей груди не вспыхнула обида. Я с тетиных рук ринулась на немца с кулачками. Потом он всегда дергал меня за косички, с тем же хохотом. Но больше не помню, чтобы над нами как-то издевались».
Однажды, пока немцы были в доме, бабушка в подвале скрыла раненого красноармейца. Детям строго запретила кому-то говорить про него. Алла видела его только раз, бледный, заросший, он лежал под шинелью. Фашисты так и не узнали, что семья укрыла солдата.
Краснодар подвергался бомбежкам, грохот которых все еще хранит детское воспоминание Аллы Семеновны. В бабушкином огороде была траншея – осталась после отступления советских войск. «Мы туда прыгали, и я отчетливо помню запах земли, ядовитый запах от взорванных снарядов и… страх. Бомбежка, все гудит, дрожит, колеблется, сыпется сверху земля. Мы, съежившиеся, сидим на дне траншеи, взрослые накрывают нас теплыми, громоздкими одеялами. Громкие страшные взрывы… Я и сейчас, во время праздничных салютов, невольно сжимаюсь от леденящего страха».
После войны семья поселилась в городе Очакове, это между Николаевом и Одессой. Отец был на фронте до последнего дня, имел тяжелые ранения и контузии, вернулся к семье в 1946 году. Алла, впервые в своей жизни видя отца, всегда ходила за ним «хвостиком», с любопытством наблюдала за ним и подражала во всем. «Он был очень большой и красивый, от него пахло чем-то незнакомым, он ходил в военной форме с орденами и медалями, с нашивками. Помню, как до зеркального блеска он начищал свои сапоги, как пришивал белый подворотничок на своем кителе. Как садился на край кровати, поднимал брючину, и я видела, что кожа на ногах его была очень темная. И я не понимала, почему у нас светлая кожа, а у папы такая темно-синяя. А он выдавливал темные пятнышки на коже, и шла сукровица, а вместе с ней и крошечные осколки металла. А еще помню, как я любила, сидя на коленях у папы, пальчиком вдавливать его щеку, там образовывалась ямочка, она долго не сходила, а потом снова заплывала. А я хохотала. Меня это очень смешило… Но оказалось, что папа в то время опухал от голода».
После войны семья очень голодала. Семен Степанович, будучи заместителем председателя исполкома по продовольственным заготовкам, выезжал в села района, и мама просила его, чтобы он хотя бы детям привозил что-нибудь – подсолнух или початок кукурузы. Алла помнит грозный окрик папы: «Не положено!» За городом были баштаны (огороды), где жители сажали подсолнечник, дыни, арбузы и кукурузу. Пятилетняя Алла помогала маме тяпкой окучивать сухой землей всходы кукурузы. Но основной урожай снимали какие-то воры, а семье оставались совсем крохи от него, а еще дикий паслен, из которого мама лепила потом вареники. «Паслен давал сок в воду, и вареники получались синие и не очень вкусные. У меня от голода постоянно болел живот. Все время хотелось есть, и я, как потом рассказывали родители, прижав к груди кулачки, просила: «Мама, папа, дайтэ мэни крыхитку хлиба, моя душенька кушки хоче…», – со слезами вспоминает Алла Семеновна.
Однажды, когда девочки уже учились в школе, сестру-отличницу наградили поездкой в Москву. Оттуда она привезла коробочку невиданных, ослепительно белых кубиков сахара. Мать поделила сахар между сестрами поровну. «Легли мы с сестрой в свою кровать, сестра грызет сахар, а я ухо к ее щеке приложила и слушаю «хрум-хрум». Она свой сахар съела, а я ей говорю – хрумкай еще! И отдала ей весь свой сахар, чтобы послушать этот необычный звук, больно он мне понравился», – улыбается Алла Семеновна. А еще вспоминает звуки баяна – у отца был трофейный инструмент, он часто аккомпанировал Алле, пока она танцевала. На полу светилась дорожка от солнца, и девочка, в сшитой мамой из марли «пачке», под звуки музыки кружилась по ней на кончиках пальцев, словно балерина. Или, стоя на табурете под елкой, пела под папин аккомпанемент: «Горит свечи огарочек, гремит недальний бой, налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой…»
В 1951 году семья Панич уехала в Магаданскую область, в поселок Усть-Омчуг, родители Аллы получили в 1968 году почетное звание Ветеранов Крайнего севера.
А из той поездки у Аллы Семеновны сохранились воспоминания, связанные с войной… «Когда мы ехали в поезде по территории Украины, помню, папа усадил нас с сестрой у окна и сказал: «Смотрите, девчата, здесь воевал ваш папка». А за окном, до самого горизонта, видны были искореженные, опрокинутые пушки, машины на вывороченной черной земле, без единой травинки и кустика, и танки со свастикой и красными звездами, вздыбленные друг на друга…
И я ощутила вдруг пугающий запах в вагоне, напомнивший мне наше недавнее военное, голоногое детство в Краснодаре: вздрагивающую траншею в бабушкином огороде, рев, свист, гром взрывов, удушающий запах, осыпающиеся на наши головы комья земли…».
Автор: Злата Габидулина
#Краснодар #голод #ребеноквойны
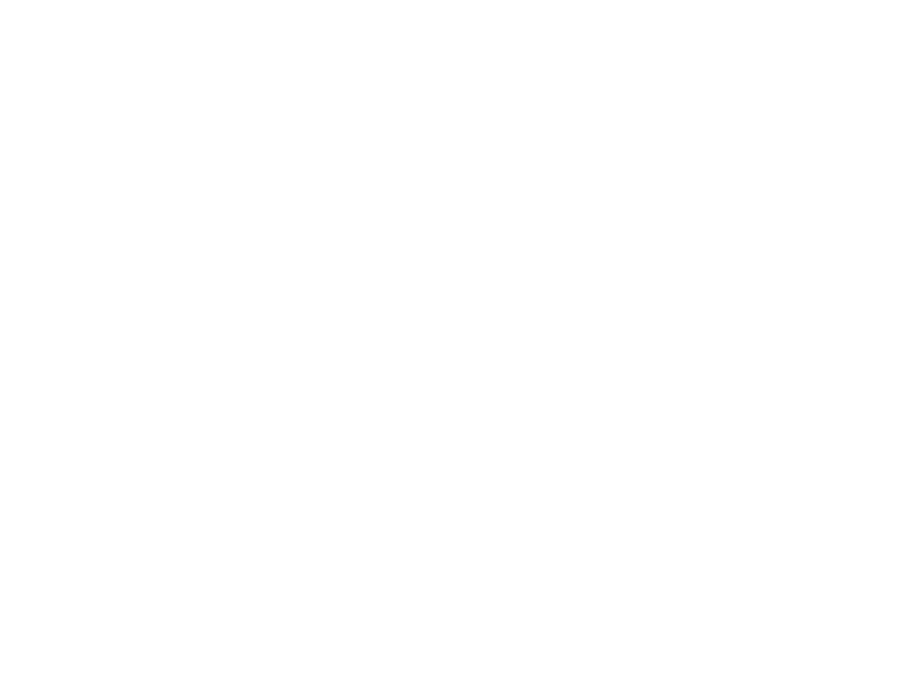
Жили мы на 5 этаже, и вместе с мамой, Павловой Екатериной Гавриловной, ходили на чердак дежурить, чтобы не было пожара. Зажигательные бомбы прожигали крышу, а на чердаке был песок, которым мы тушили огонь. Помню, что было очень страшно!
Отец мой, Яскин Василий Ильич, ушёл на фронт, а его брата – дядю Яшу – не взяли в армию, потому что у него был туберкулёз. И вот мама, моя тётя (её сестра), я, моя сестричка Инночка, которая была младше меня на 10 лет, и этот дядя Яша – мы все жили вместе, в одной комнате. А чтобы было теплее, впятером спали в одной кровати, поскольку наша комната была в коммунальной квартире крайней, у самой лестницы, и там постоянно были сквозняки. Дров у нас не было, и для обогрева жгли всё – даже книги. Мой отец был коммунист, партийный, поэтому у нас был многотомник В.И. Ленина. И вот, чтобы как-то согреться, жгли и его, так что можно сказать, что Ленин нас спасал в блокаду от холода.
Было очень тяжело, и мы сильно голодали. Запомнился один случай: мышей и крыс тогда уже не было нигде, но дядя где-то поймал мышонка, поджарил его и съел. Мы же с сестрой выжили только благодаря тому, что мама в самом начале войны сделала большие запасы витамина С и рыбьего жира – это и спасло. Она нам давала по чайной ложке рыбьего жира, который мы запивали шиповником.
Сначала умерла тётя, в конце декабря 1941 года. Потом, в начале января 1942 года, умер дядя Яша. И мы целый месяц жили с покойниками, потому что сил не было их отвезти на кладбище. А ещё, когда они умерли, то мама получала карточки за сестру и дядю. Всё-таки хоть побольше было. Помню, что в конце января канализация уже не работала, света не было, а воду брали из Мойки. И мама решила уехать из этой квартиры. Покойников тогда никто не ходил и не собирал, поэтому мы просто завернули их и оставили в коридоре.
Когда мы переехали на улицу 1-я Рота, которая сейчас называется 1-я Красноармейская, то там было намного лучше. Это была квартира из четырёх комнат, и там жили две мамины сестры (у мамы была большая семья, она была 13 ребёнком). Рядом находилась воинская часть, поэтому была колонка и вода. Но даже там умирали. Одна тётя умерла уже при нас, и по её карточке мы потом тоже получали паёк.
Готовили мы в обычной печке – буржуйки у нас не было, некому было сделать. Один раз мама топила и чуть раньше трубу закрыла. Мы немножко угорели, 3-летняя сестричка даже сознание потеряла. Потом мама догадалась, в чём дело, все вышли в коридор, проветрили комнату, и сестра отошла.
Помню, что когда мы жили на улице 1-я Рота, там открыли бани. Это было уже весной. Я пошла и, конечно же, еле-еле залезла в тазик. Воду же ещё нужно было принести, а сил-то нет. Но это было один раз. Вообще, в марте стало немного получше, даже давали какие-то американские подарки, что-то сладкое было, конфеты вроде бы.
Но мы к тому моменту очень ослабли, уже еле-еле ходили, и мама сказала, что нужно из города уезжать. Она попросила меня сходить в нашу старую квартиру, чтобы забрать кое-что из вещей. И вот я прошла путь от Фонтанки по Майорова на Герцена, поднялась на пятый этаж, а там соседка меня увидела и говорит: «Рита, когда вы заберёте своих покойников?» Вспоминаю – ужас! Забрать, конечно, я физически их не могла, несмотря на то, что они уже высохшие были, совсем как мумии. А соседи беспокоились, так как наступила весна и всё начинало таять. Они пожаловались куда-то, их пришли и забрали.
И вот 6 апреля 1942 года мы наконец эвакуировались. Мой отец был партийным, служил в Ленинграде и был уже в звании майора. Он нам сказал, что уезжает отсюда служить куда-то дальше. За нами приехала машина, и потом мы в грузовике ехали через Ладогу. Было холодно, но мы как-то, знаете, уже холода не чувствовали – настолько уже привыкли.
Когда нас перевезли через Ладогу, то посадили в товарные вагоны и повезли дальше. Помню, что где-то там у нас была остановка, мы зашли в столовую, а мама увидела на столе чашку с солью. Попробовала и кричит: «Рита! Сахар!» А я попробовала и говорю: «Нет, мама, соль!» Оказалось, что у моей мамы ещё во время блокады атрофировались вкусовые качества.
Нам повезло, что сначала мы были в Вологодской области, а потом переехали в Калининскую область (ныне Тверскую). Немец двигался и был уже в Бежецке, в 25 км от Калининской области. Маму там устроили работать начальником пожарной охраны. Надо было в деревне смотреть, чтобы у каждого была бочка с песком и вода. Колхоз был большой, всего около 7 деревень, а председатель колхоза был очень хороший человек. Он нам дал землю. Первое время мы, конечно, совсем были дохленькие. А потом все начали работать, даже дети. Приезжала молотилка, и мы даже по ночам работали, а в 1942 году мне было всего 13 лет. Я резала снопы и помню, что от ножа все руки болели. Потом мы уже научились и пахать, и боронить, и косить. И лошадь я научилась запрягать. И с коромыслом воду носила. И даже брёвна пилила и дрова колола.
Там я снова пошла в школу. Она была очень далеко, километров 5-7. И там нас учили немецкому языку и использовать винтовку, мы сдавали нормы ГТО и ездили на лыжах. Немец же рядом был.
В начале сентября 1945 года папа нам сделал вызов, и мы вернулись в Ленинград. Так как отец был на фронте, то, чтобы ничего не украли, нашу комнату закрыли. Но никто к нам не влезал, хотя у других такое было. Я устроилась на завод в школу рабочей молодёжи. Затем пошла в Судостроительный техникум на Курляндской, училась на вечернем отделении по специальности «электромеханика» и работала на заводе «Красный Треугольник». Там проработала около 15 лет. А когда закончила учёбу, устроилась в Институт «Водоканалпроект». Сначала техником, потом инженером. Потом ушла в другую организацию – «Роспищепромавтоматика», где мы проектировали заводы пищевой промышленности. Было очень много работы, так как я работала руководителем проекта и на мне было и освещение, и электроснабжение, и подстанции. Даже по ночам схемы снились. Общий стаж у меня почти 40 лет, и за свою работу я имею орден «Знак Почёта».
Моя сестра Инна Васильевна живёт в Саратове. После войны она закончила техникум и по распределению отправилась в Саратов. Там она вышла замуж и осталась. У неё родились дочка и сын, потом появились двое внуков, а сейчас уже и правнуки есть. #БлокадаЛенинграда #ОтИсаакияДоСаратова #СольВместоСахара #КарточкиНаМертвецов

Вот так война и началась. Мы сразу уехали в город, и мой папа, как и все на заводе, ушёл на фронт 25 июня. Было у него пять братьев, молодых, по 35-38 лет. Все ушли на фронт, и все погибли. Мы – мама, я и бабушка – остались в голодовку здесь. У меня был ещё старший брат, ему было семнадцать лет, когда он ушёл на фронт. Он был командиром танка и в 1944 году погиб в Чехословакии: снаряд попал в танк.
В середине августа 1941 года за нами в осаждённый город приехала машина. Когда приехали за нами, сказали: «Вот вам полуторка — грузовая машина, вещи грузите. Эвакуируем вас, потому что вы семья директора завода, члена партии».
Бабушка сказала: «Мы здесь родились и мы никуда не поедем. Здесь, если будет война, мы умрём, но не поедем».
Страшная голодовка началась. Восьмое сентября — полное окружение города фашистами. Началась блокада Ленинграда. В октябре месяце уже начали по карточкам 125 грамм хлеба выдавать. Ольга Берггольц писала: «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам». Ужасом было и Ладожское озеро – по нему возили продукты и вывозили в эвакуацию детей, женщин.
Начались бомбёжки и обстрелы, голод и холод. Ни электричества, ни воды — ничего не было. Чтобы получить 125 грамм хлеба, надо было отстоять пять часов в очереди. Морозы начались страшные, до сорока градусов доходили.
В декабре 1941 года получили 375 грамм на всю семью. На весь день. Это не хлеб был, муки-то не было: опилки какие-то, дуранда, жмых — чёрт знает что! Темно было. Мы пошли домой, и вдруг выскакивает страшный такой мужик, весь трясётся, напал на бабушку и стал руки выворачивать и отнимать хлеб. А у меня был молоток папин: я его по шее и голове стал бить и кричать — тогда он её отпустил и за мной побежал. Кое-как мы спаслись от этого мужика. Это был страшный стресс, бабушка потом в себя не могла целый месяц прийти от страха.
А ещё я был в пожарной команде – вот как это получилось. Сентябрь 1941 года. Рядом пожарная часть, угол Садовой и Подьяческой, ещё при Екатерине построенная. Приходит к нам дядя Федя и говорит: «Мальчики, все мужчины ушли на фронт, остались вот только мы: три старичка и пять женщин. Там вышка высотой с пятиэтажный дом, надо на неё лазить и смотреть, где пожары. Мы не можем, на вас вся надежда».
Так мы оказались в пожарной команде: нам надели каску, робу, противогаз, и мы лазили на самый верх. Где бомбёжка, где обстрелы — мы верёвкой сигналили, и выезжала машина на тушение пожара. Ну, а потом перестали выезжать — бензина не было.
Немцы старались попасть в мост через Фонтанку, а 7 ноября 1941 года попали в соседний дом, на углу Фонтанки и Вознесенского проспекта (тогда проспекта Майорова). Мы прибежали утром, смотрим — там срезан весь дом, тонная бомба попала, женщина стоит, рыдая, и кричит: «У меня на третьем этаже дочка спряталась, это наша квартира. Мальчик, сходи туда, посмотри».
Я пополз по горячим кирпичам на третий этаж, там коридор оставался цел. И в том коридоре, на кухне за столом, сидела девочка лет четырех-пяти и плакала, еле вывел я её оттуда. Женщина увидела дочку, разрыдалась и упала в обморок. Вот так я спас девочку — об этом даже в газете писали.
Ночью была такая темень, что друг на друга натыкались. Чтобы не сталкиваться, нам давали специальные жетоны, при помощи которых было видно, что навстречу человек идёт. Вот так мы пережили страшную, голодную, тёмную зиму.
Голод был жуткий — есть нечего. Ещё до войны мы сделали ремонт: обклеили стены обоями, а клей-то тот из муки был. Так вот, мы с бабушкой сдирали эти обои, ставили на буржуйке кастрюлю, туда кидали снег и варили обои. Потом через дуршлаг процеживали и пили эту воду, потому что в ней были крахмал и мука. Всю квартиру ободрали. Но бабушка всё-таки умерла от голода, ей было тогда 58 лет. Мы остались с мамой вдвоём.
Когда была бомбёжка, я ходил с мальчиками – было у меня два друга: Кошатник (его так звали, потому что он везде ловил кошек, варил их и ел, но всё равно потом умер) и Батька. Мы поднимались на крышу, дежурили и гасили зажигательные бомбы, спасали женщин, помогали им, выводили их с детьми в бомбоубежище — и потом обратно.
Мама у меня совсем дистрофиком стала. Она была донором крови – за это давали 300 миллилитров соевого молока. А нам в пожарной команде давали морковный чай и кусочек сухаря на целый день – это был праздник. В 1942 году маму положили в больницу, а меня отдали в приют на два месяца, но потом мама выписалась и меня забрала.
В мае-июне 1942 года бригада молодых людей ПВО ходила и собирала трупы, складывая их штабелями в домах, потом приезжала машина и забирала. Умирало в день по 20-30 тысяч человек, не столько от бомбёжек или обстрелов, сколько от голода. Самое страшное было, когда от голода умирали твои близкие люди – ты видишь, что они умирают, но ничего не можешь сделать. У нас погибло в голодовку 12 человек. Моей бабушке похоронки приходили одна за другой, а тут ещё и голод — вот она не выдержала и умерла.
18 января 1943 года был прорыв блокады – он стал днём, когда мы наконец улыбнулись. Появилась надежда, что всё-таки мы победим. Пошли поезда. В нашей школе был госпиталь, там раненые лежали, и мы с мальчишками прибежали, галстуки надели и кричим им: «Прорыв блокады!» — праздник был необыкновенный. Помню ещё, как в 1943 году мы варили суп из лебеды и крапивы.
А 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята, в честь чего был дан первый салют. Этот салют произвёл на нас большое впечатление – это было просто какое-то чудо. Мы с мальчишками находились недалеко от Мариинского театра (тогда он назывался Кировским), рядом проехала машина, в машине сидел молодой красивый парень, блондин, но без ноги, и играл на гармошке. Из театра вышла девушка и дала мне конфетки – я одну сам съел, а одну маме отнёс. Мы пели, орали, танцевали. А одна женщина в чёрном стояла около стенки и плакала. Её спросили, чего она плачет, а она говорит: «У меня два мальчика-близнеца умерли с голоду. Им сейчас по 11 лет было бы. А муж на фронте погиб. Я одна осталась...»
Все 900 дней мы были в блокаде, еле выжили с мамой, и то, благодаря тому, что я был шустрый, боевой. Так прошла блокада, но голод продолжался с 1941 по 1955 год: товаров не было, всё в дефиците. #900дней #ПожарнаяКоманда
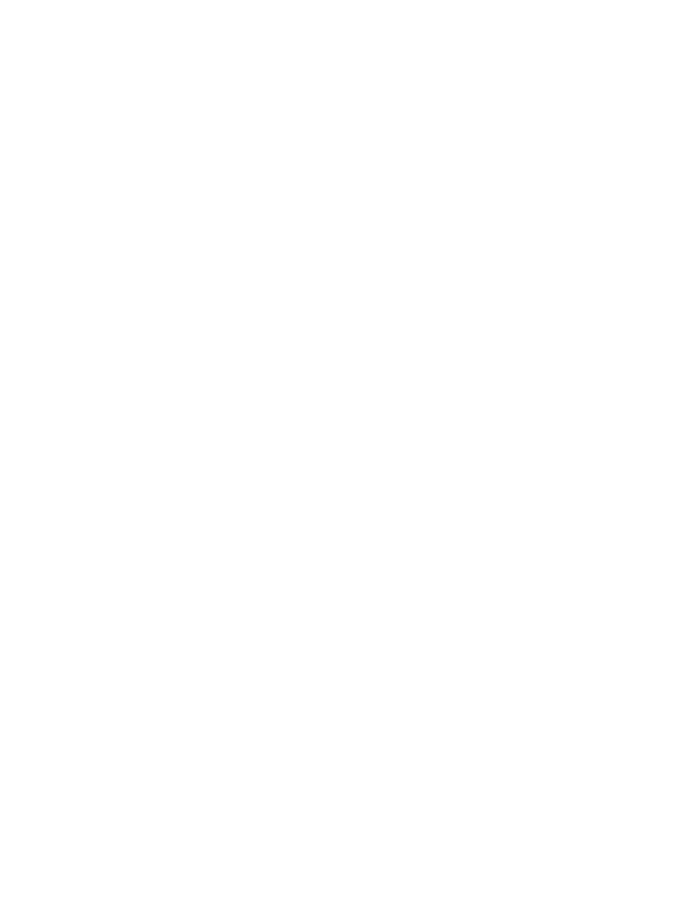
Автор: Ольга Жукова
Александра Тимофеевна родилась 9 мая 1928 года в городе Льгове Курской области. Родители работали на железной дороге, содержали многодетную семью. «Мама говорила: “Было пятнадцать, а вырастила я девять”», – вспоминает Александра Тимофеевна – вот такая высокая была детская смертность в то время.
Семья Федуловых горячо любила свою Родину. Александра Тимофеевна помнит разговор старшего брата Михаила с родителями, состоявшийся накануне войны. Брат вернулся из Воронежа, рассказывал, что обстановка тяжёлая. Мама стала просить: «Сыночек, если война, я прошу тебя, не надо добровольно идти. А позовут – иди обязательно». Брат ответил: «Тут, мамочка, не могу исполнить твою просьбу. Я обязан идти туда, куда позовёт родина». Вскоре после его отъезда началась война, Михаил ушёл добровольцем на фронт, да так с фронта и не вернулся.
А через три месяца немцы уже пришли во Льгов. Рано утром в железнодорожную казарму, где жила семья, вошёл папа и сказал: «Гости пожаловали, пришли, сволочи». Местным жителям оккупированных территорий нельзя было свободно передвигаться, за всем происходящим в городе следили фашистские патрули.
Однажды младший брат Николай пришёл домой, собрал всю семью и стал уговаривать эвакуироваться. Но отец отказался: мама на тот момент была больна, да и дети маленькие. Сказал брату самому эвакуироваться – а тот объявил, что вступил в ополчение. Рассказал, что партизаны знают, по каким целям бить, чтобы помешать фашистам, что скоро они получат оружие и оборудуют землянки в Брянских лесах.
Решением отца дом Федуловых стал убежищем для партизан. У них поселилась девушка-парашютистка Наташа, которая трижды пересекала линию фронта. Саша удивлялась Наташиным навыкам: она знала специальные знаки, успевала записать, пока поезд едет мимо, откуда и куда он следует, где делает остановки. Потом узнала – диверсантов обучали по разным специальностям: автовождению, радиосвязи, взрыву или строительству мостов и т. д. «Честно, добросовестно они работали», – вспоминает Александра Тимофеевна. Одного диверсанта застали за разбором железнодорожного полотна. Пытки, которым предали мужчину, Александра Тимофеевна не может передать словами.
Но были среди местных жителей и предатели, которым фашисты щедро платили за сведения. В железнодорожной казарме был один инженер, который работал на немцев. Однажды жена предателя подошла к Саше и сказала, что её муж «подметил» Наташу и ей скоро не миновать беды. Папа сказал мне: «Если кто про Наташу спросит, скажи, что она с братом Колей училась, а сейчас у тёти в деревне живёт». Но спасти смелую разведчицу так и не удалось - немцы её всё же вычислили и жестоко с ней расправились – повесили.
Предательство своих отразилось и на семье Федуловых, укрывавших партизан. Однажды к ним нагрянули полицейские, наложили арест и изъяли многие вещи, а ещё сильно избили отца на глазах у детей. Но Тимофей Иванович не отступил и продолжил помогать ополчению, помогал им прятать оружие. «Помню рассказы брата про ракетницы и цели, по которым планируют бить, сестра собирала сведение про немецкие эшелоны… Не знаю, как мои близкие могли делать эту работу так отважно», – с восхищением рассказывает Александра Тимофеевна.
В августе 1942 года немцы арестовали всех партизан, в том числе и её брата Николая, которого немцы поймали, когда он выполнял задание. Привезли избитых ополченцев в город и собрали местных жителей на казнь – показать, как фашисты расправляются с партизанами. Так, на глазах у родных, всех и расстреляли.
Самым сложным периодом для Александры Тимофеевны стал голод, который многих доводил до сумасшествия. «Было растение такое – мы называли его “курочка”, потому что оно пахло как суп. Мама говорила, что нужно попробовать упросить патруль, может, сжалятся над ребёнком и пустят в лес собрать траву. И хотя отец говорил, чтобы я не попрошайничала, я всё равно пошла, потому что голод был ужасный и двое наших детишек уже опухли от голода».
3 марта 1943-го советские войска освободили Льгов, и город стал возвращаться к жизни. Саша пошла работать на железную дорогу, чтобы помочь семье деньгами.
Лето 1943 года отпечаталось в памяти Александры Тимофеевны малиновыми всполохами на ночном небе. Пока шли бои на Курской дуге, местные жители в страхе ждали каждой жаркой от огня орудий ночи и всеми силами верили в победу своих.
О победе семья Федуловых узнала из радиосообщения. «Все радовались, босые, голые. Это казалось счастьем. На нас война тяжёлым бременем легла. Помню, мама кричала криком: “Мои сыночки, почему я вас не дождалась... Сколько вас у меня было? Сколько горя!”». Из троих сыновей в живых остался только средний - Василий, который всю войну служил в железнодорожных войсках.
После войны Саша получила педагогическое образование и стала учителем русского языка и литературы. Воспитанию молодых поколений Александра Тимофеевна посвятила более 50 лет своей жизни.
#МалиновыйЦветНочи #АлександраСтебунова #ПартизанскоеДвижение #КурскаяДуга #ГероизмИПатриотизм #ИсторииВетеранов
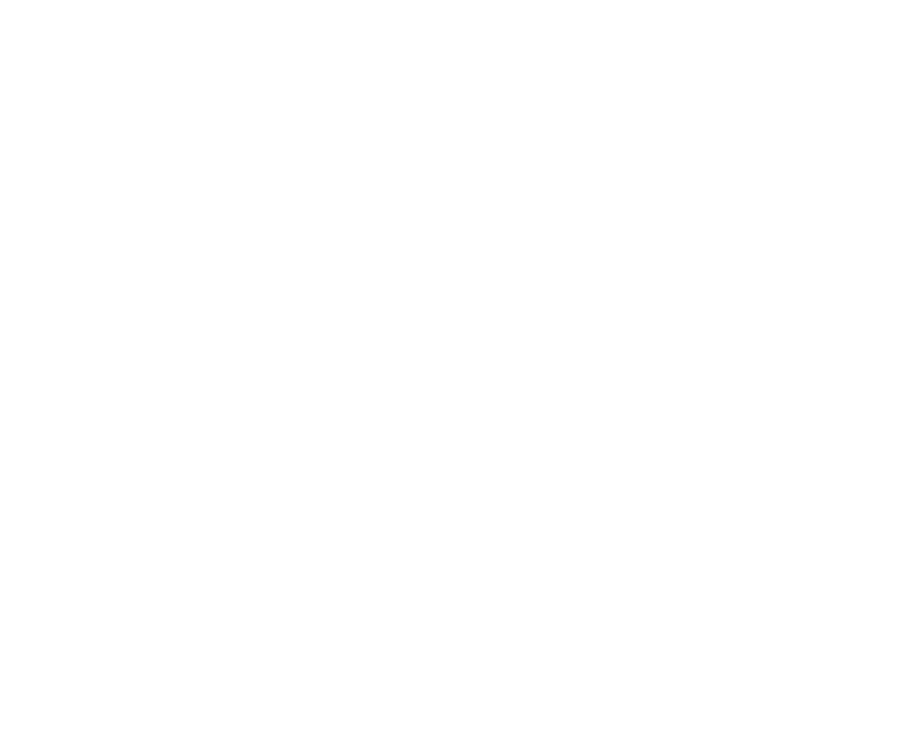
Утром 22 июня Люда вышла гулять во двор в новом сарафанчике, чтобы похвастаться обновкой, которую ей сшила мама. Но вдруг мать позвала домой и со слезами сказала: «Люся, началась война!». Узнав дурную весть, 5-6 девочек, в том числе и 13-летняя Люда, собрались и пошли в военкомат – проситься на фронт. Военный ответил: «Какой вам фронт? Старшие девушки ещё попадут, а вы подрастите!». Никакие уговоры не помогли, а девочки вышли – и в слёзы.
В сентябре 1941 года ученики ещё ходили в школу, но уже в другую, поскольку в их школе организовали госпиталь. В дворницкой, помещение которой освободилось после эвакуации дворника с семьей, ребята организовали группу самозащиты. Там были противогазы, костюмы против химической атаки, медикаменты. В этой группе Люда была санитаркой и дежурила на крышах. Люди очень дружные были в Ленинграде, помогали друг другу, пока не наступил сильный голод. А чем и как помогать, если ты сам 125 грамм хлеба получаешь?
Немцы беспощадно бомбили Ленинград, особенно в начале войны. Для детей – Люды и её сестры – мать сшила рюкзаки и положила туда печенье на случай воздушной тревоги. А воздушные тревоги и днём, и ночью: только ленинградцы ложились спать, и опять звучала сирена! Бежали в укрытия, бомбоубежища, окопы, а Люда бежала в штаб самозащиты. Людмила Константиновна вспоминает, что по постановлению после бомбёжек жителям необходимо было разбирать разбомбленные дома на дрова. Картина после вражеских налётов была страшная – создавалось впечатление, словно горит земля и небо. Всё полыхало в огне.
Мать Люды варила дуранду, ежедневно распределяла скудный паёк, немного крупы было запасено. Пережив голод в 1917 и 1930-х годах, она беспокоилась за детей и семью и где-то достала 2 бочки, нарубив в них хряпу. В 7-ми метровой кухне, где топили плиту, ютились 6 человек, чтобы не замёрзнуть. Однако бабушка, отец, да и остальная семья, как и многие другие горожане, стали слабеть. По городу ходили слухи, будто запаса продуктов в Ленинграде на 5 лет. Но вскоре все поняли, что никакого продуктового запаса нет, а Бадаевские склады сгорели ещё в сентябре 1941 года. Ленинград замер, скованный голодом, холодом рано пришедшей зимы, и начал умирать.
Когда отключили свет, то жители приспособились, понимая, что идёт жестокая война. Зимой 1941-1942 гг. замёрз водопровод, и в квартиры перестала поступать вода. Военные, находившиеся в городе, делали проруби на Неве и каналах, либо делали в трубах отверстия, чтобы жителям можно было набрать воды. Воду для приготовления пищи и питья Люда с бабушкой набирали в одном из бьющих фонтанчиков, а для других нужд растапливали в баке снег.
В их округе все друг друга знали, и Людмила Константиновна рассказала несколько леденящих душу случаев. Однажды кто-то сказал, что Поля Иванова убила троих своих детей и повесилась сама. Она не смогла выдержать постоянные детские мольбы: «Мама, дай хлеба, хлеба, хлеба…». А её одноклассника убили собственная мать с сестрой и съели. Позже его голову нашли под домом. Но такие случаи, добавляет Людмила Константиновна, были редкостью. Все ленинградцы желали гибели Гитлеру и немцам. Гитлера люто ненавидели и считали его виноватым во всех бедах.
Говорили также, что люди отнимали друг у друга хлеб. Человек, доведённый до отчаяния голодом, конечно, мог совершить такой поступок. В один день вместо хлеба дали муку (причина остановки хлебозавода была неизвестна), но из неё ничего не сделать – выдана крошечная порция. А когда объявили, что вновь дают хлеб, то очередь разволновалась, люди толкались, давили друг друга. Но кражи или давки за хлеб, подчёркивает Людмила Константиновна, были очень редкими. Многие ленинградцы, даже посмотрев смерти в глаза, не теряли своего лица. Никто не лез в очередь наобум, соблюдали порядок. «Я не помню, чтобы кто-то роптал. Всё переносили молча, как будто так и надо», – говорит Людмила Константиновна.
В августе 1942 года девушку Люсю и её сестру эвакуировали в Алтайский край. К этому времени мать и бабушка умерли от голода, а отец остался в Ленинграде и работал на заводе «Большевик». В эвакуации к девочкам местные жители относились очень хорошо, жалели их, помогали. Зимой 1942-1943 гг. Люся и сестра Нина не голодали, так как Людмила на мельнице смолола пшеницу в муку, из которой они пекли лепёшки. А зимой 1943-1944 гг. урожай побило градом, и вновь было голодно. Отец похлопотал и из Ленинграда девочкам присылал посылки.
Девочки вернулись в Ленинград в 1944 году, после снятия блокады. И вновь посодействовал отец, прислав вызов о возвращении дочерей домой. «День Победы, - улыбается Людмила Константинова, - стал для меня самым счастливым днём и является таковым и поныне». Сейчас замечательной женщине 92 года, и она сохранила свой жизненный оптимизм и звонкий голос, а мы желаем ей крепкого здоровья! #АлтайскиеЛепёшкиСпасения #СарафанНаФонеВойны #УрокиМолчаливогоГолода
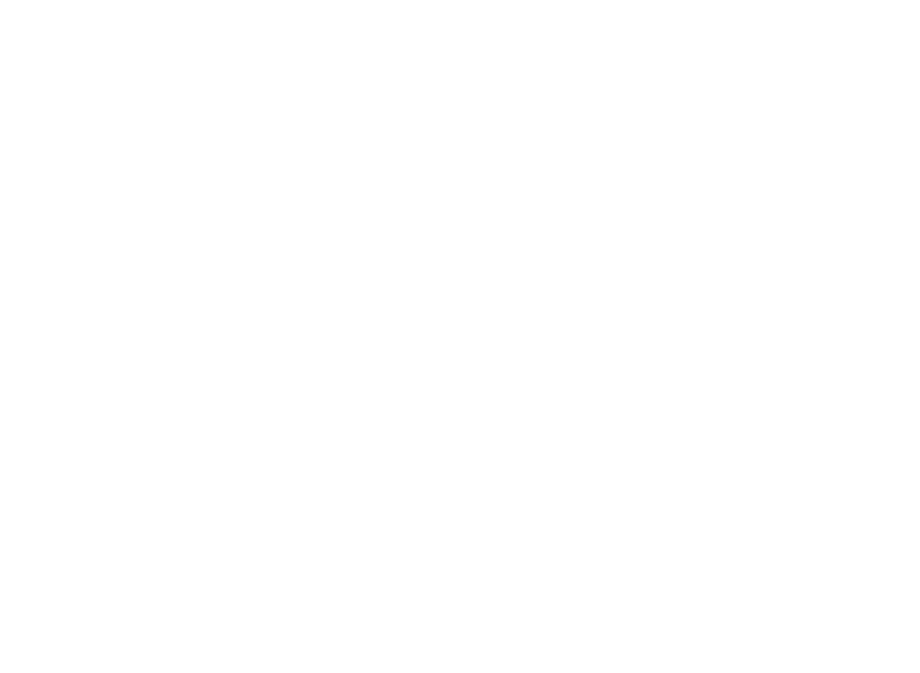
Отец ушёл на фронт, сестра была призвана в МПВО в Ленинграде, а мы с мамой остались в городе. Помню, как в школе однажды объявили, что формируется группа мальчишек, которая отправится собирать смётки. Тогда, в начале блокады, никто из нас не знал, что это такое, так же как и не слышал слова «жмых» или «дуранда». Смётки у меня ассоциировались со сметаной, и я сказал маме, что мы с мальчиками поедем за сметаной. Дома был переполох: мама начала думать о том, что можно будет приготовить из этой сметаны. А нас привезли на мукомольный комбинат, дали нам по баночке с маленькой метёлочкой и наказали лазить по балкам комбината и сметать в банку всю эту мучную пыль, которая на них осела. А в подарок нам потом дали по стаканчику вот этой пыли, которую я и принёс домой вместо сметаны. Это было невероятное счастье! Мама испекла блины, которые хрустели на зубах всевозможным песочком, но вкуснота была невообразимая.
Также в школах были организованы специальные комсомольско-пионерские отряды из тех детей, которые остались в городе, не эвакуировались. Мы занимались подготовкой бомбоубежища в школе, у каждого были свои обязанности: кто-то следил за тем, чтобы была вода, кто-то следил за тем, чтобы вентиляция была, кто-то за порядком. У меня была такая обязанность – я должен был в случае объявления тревоги включить рубильник вентиляции. Это была очень почётная должность, мне это было очень интересно. Я выходил на улицу – рубильник был на улице, я его включал, чувствовалось завывание вентилятора, и я стоял и торжественно, и очень строго следил за тем, чтобы вот этот гул вентилятора не снижался.
Но чем дальше шло военное время, тем сложнее эти обязанности были. К сентябрю начались налёты на Ленинград. Нас обучили гасить зажигательные бомбы. Эти бомбы были небольшие, страха такого не было, откровенно говоря, а был какой-то такой мальчишеский интерес во всём этом – мы чувствовали себя участниками сражения. Однажды мы услышали на лестничной клетке крик ребёнка. Крик был настолько звонким и раздражающим, что мы пошли искать. В блокадный период квартиры не запирались: квартиры были коммунальные, брать было нечего, наверное, а таких квартир, которые запирались, в нашем районе мы не знали. Нашли мы источник этого крика на одной из лестничных площадок. Открыли дверь и видим такую картину: небольшая комната, может быть, метров двенадцать, на кровати лежит мёртвая женщина, а вокруг неё ползает примерно годовалая девочка, которая пытается сосать грудь. Ну что мы могли сделать? Мы взяли этого ребенка, закутали в то, что попалось под руку, и притащили в школу. В городе по районам были созданы такие сборные пункты, в нашем районе он был на Мытнинской улице, там была баня – видимо, по уровню возможности отопления сделали такой сборный пункт именно там. Но вот интересно детское восприятие такого периода: когда мы взяли этого ребенка, то не сообразили, что надо найти документы. Спрашивают: «Кто, откуда?», а я даже и не помню, какая квартира, откровенно говоря, по-моему, это было на шестом этаже или на пятом. И таких случаев было очень много, поэтому были созданы уже регулярные рейды детей и не только детей, но и дружинниц МПВО, которые искали по квартирам таких беспризорных малолетних детей, которые остались одни в результате смерти родителей от голода. Эти сборные пункты превратились потом в детские дома, и эти детские дома эвакуировались. И когда мы притаскивали этих детей, и у нас спрашивали: «Кто это такие? Как их звать?», а мы не знали, то они говорили так: «Вот кто принёс? Исаак принёс. Ну ладно, напишем в журнале «Исакова». Эта история имеет продолжение: несколько лет тому назад мне сообщили, что меня разыскивает некая женщина. Мы с ней встретились, и оказалось, что её девичья фамилия Исакова, и она, сирота, вместе с детским домом была эвакуирована из Ленинграда во время блокады в Ташкент, где позже закончила университет, вышла замуж, и сейчас у неё большая семья. Все эти годы она пыталась разыскать, откуда её родители и кто она такая. Из записей в блокадных журналах выяснилось, что спас её некий Исаак, после чего она навела справки и вышла на меня – имя-то у меня довольно редкое.
Этот блокадный период тоже для меня значим, поскольку я считаю себя участником тех событий, благодаря которым в городе спасали вот таких беспризорных детей.
А в конце 1943 года наступил мой призывной возраст, и меня призвали в армию. Обучили наводчиком орудия, и в 1944 году я попал в знаменитый, легендарный 30-й гвардейский стрелковый корпус генерала Симоняка. Шло большое наступление по полному снятию блокады города. Я попал в пополнение в период, когда наступление двигалось на Прибалтику. Мы освобождали Таллин, и война для нас закончилась в июне 1945 года.
15 мая пехотные соединения армии корпуса Симоняка были сняты с боевых позиций и направлены пешим строем в Ленинград. Мысль была такая, что все войска, участвовавшие в освобождении Прибалтики, должны парадным шествием пройти через центральные города прибалтийских республик: Таллин, Ригу, Вильнюс, и затем на Псков и в Ленинград. Мы шли по шоссейным дорогам и проходили через специально возведённые арки – временно были построены триумфальные арки. Нам всем дали отдохнуть один день. 7-го мая было тепло, и нам накануне выдали новое обмундирование, чтобы мы переоделись, но в этот день пошёл ливень, и он был настолько сильный, что обмундирование превратилось в Бог знает что. И тогда было принято решение переодеться в обмундирование, которое было у нас на фронте. И вот мы в походном строю надели каски, которые у многих были со следами пуль и осколков.
То, что творилось тогда на улице, сегодня очень сложно передать. Море людей, прекрасная погода, у всех цветы, в основном полевые, все что-то несли – каждый хотел войти в строй и что-то подарить: кто-то яблочко, кто-то печенюшку, кто-то крынку молока. А мы пешим строем прошли на Дворцовую площадь и там перестроились в парадные колонны. Это было 8 июля 1945 года – наш Ленинградский Парад Победы.
В 1949 году я встретился с девушкой, с которой учился с первого класса, – Галей Залесской. Через год мы поженились и прожили долгую и счастливую жизнь вместе – 67 лет. У нас родились две прекрасные дочери: Людмила и Марина, есть внуки и уже семеро правнуков!
После демобилизации я задумался о профессии и сначала хотел пойти в скрипичные мастера, поскольку очень любил этот инструмент. Но нужно было кормить семью – к тому моменту у нас уже родилась старшая дочка, а на зарплату мастерового не проживёшь. Так что скрипка у меня так и осталась воспоминанием. И тогда я пошёл на завод «Арсенал» помощником кузнеца, а потом прошёл большой путь до сталевара и литейщика.
Но сначала нужно было получить высшее образование, и я помню, как мы с Галиной вместе готовились к сдаче экзаменов за 10 классов экстерном, после чего я поступил в институт на заочное отделение, а потом и в заочную аспирантуру. Туда я даже и не собирался, поскольку уже тогда работал на заводе мастером. К тому же я и не предполагал, что смогу получить что-то большеe, чем высшее образование, но меня уговорили, сказав, что тема у меня совершенно невообразимая в плане новизны. Я занимался разработкой теории внедрения атомов азота в сплавы металлов для повышения их износостойкости. Защитился я с триумфом, помню, что академик Архаров даже лично мне подписал книгу: «Лучшему азотировщику страны». А в 1971 году меня пригласили выступить в Лондоне на Международной конференции металлургов с докладом, который признали одним из лучших, и мне был преподнесён знак-подарок от Королевы Елизаветы II – тарелочка. Всего же у меня около 15 изобретений.
Кстати, я настолько увлёкся металлургией, что и хобби у меня соответствующее: дома много предметов интерьера, которые я отлил своими руками из чугуна. У меня даже был художник, который делал мне гипсовые модели.
Я считаю, что прожил по-настоящему счастливую жизнь. К сожалению, уже 3 года, как моей супруги Галины нет в живых, но память о ней живёт среди всей нашей большой семьи – а это 19 человек! #ИсаковаИстория #ОтСкрипкиДоЛитейногоЦеха
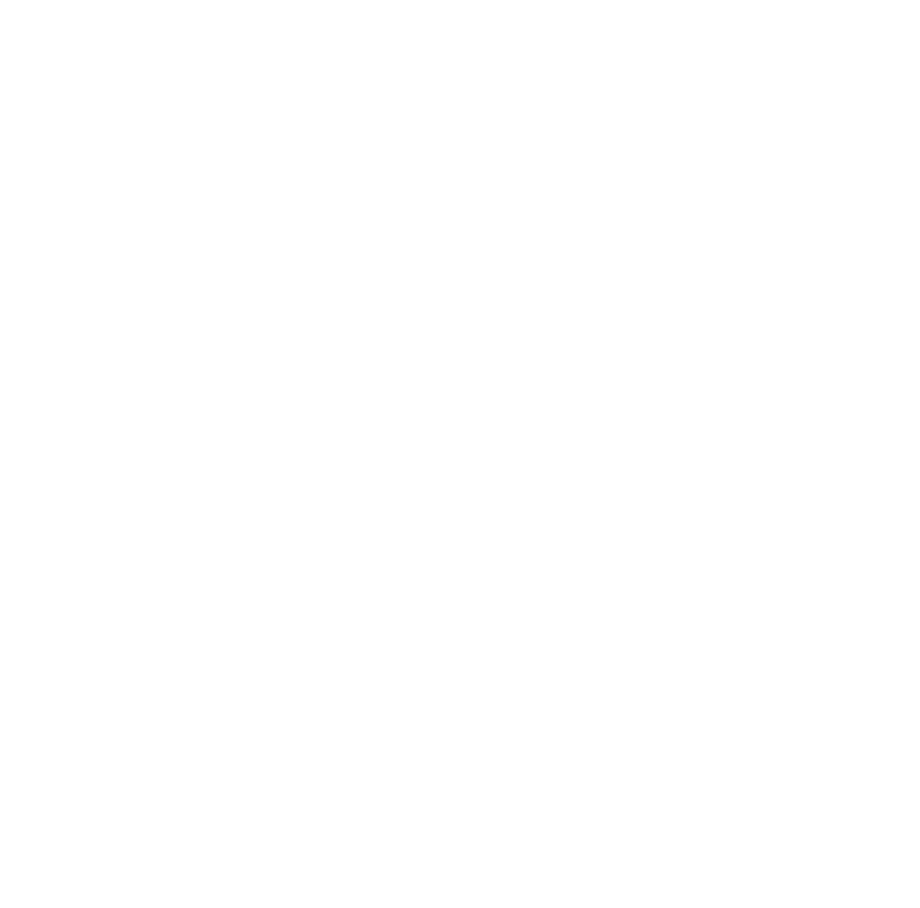
Когда соседка уходила, она приобняла Нину и сказала: «Нам германцы нипочём! Мы германцев кирпичом!» После её ухода девочка снова отпросилась погулять во двор.
Во дворе стояли две липы и столик со скамейками. Раньше рядом был ещё и флигель, но дети его раскопали, поэтому рядом с липами лежала груда кирпичей. Нина залезла на эту груду и скинула один кирпич со словами: «Нам германцы нипочём! Мы германцев кирпичом!» — и после нескольких таких повторов полетела вместе с кирпичами вниз, на землю...
Через несколько дней ребят из Свердловского района начали эвакуировать из Ленинграда. Когда Нину снаряжали в эту поездку, к ним пришла соседка и дала сшитый своими руками мешочек, материал которого был похож на клеёнку. Вдобавок мама положила много красных денежек — как потом Нина узнала, это были 30 рублей.
Мама отдала деньги и сказала: «Подготовленными вас там никто не ждёт, как будут готовить и что — непонятно. Походи по деревушке и выбери домик, который тебе понравится, например: занавесочки на окнах, кошка сидит, цветочки у входа. Познакомься с хозяйкой, подойди к ней, поговори, попроси её кормить тебя и отдай ей одну бумажку».
В день отъезда оказалось, что в вагоне, в котором ехала Нина, она не знала никого, кроме своего одноклассника Кости и его брата Витьки. Вывезли их в Новгородскую область. Мама Кости была домоуправом их корпуса. Ещё с ребятами поехала завуч их школы — она была учителем математики, и все её называли Асеевна.
Ребят заселили в одноэтажный домик, похожий на школу. В этот же день Нина отправилась выполнять поручение матери. Спустя недолгую прогулку она выбрала домик и отправилась договариваться с хозяйкой. Та сказала: «Ну, приходи с подружкой». Но Нина знала только Костю и Витю, и поэтому приходила она с ними.
На столе всегда стоял самовар, в котором плавали яйца, свежевыпеченный хлеб, молоко и творог, зелёный лук на деревянной дощечке.
Хозяйка обычно уходила рано утром на работу, и ребята завтракали и обедали без неё. Но в один день женщина осталась дома. Муж хозяйки должен был отвезти сено в одну из воинских частей, но у него сломалась телега, и ему пришлось вернуться. Женщина держала в руках платочек, кончиком которого вытирала слёзы с краёв глаз, и твердила: «Куда ты поедешь? Немцы уже здесь, так привезли ещё и ленинградских ребят сюда, прямо в лапы к немцам, к фашистам!» Когда Нина это услышала, то решила, что раз он куда-то поедет, туда, к станции, где уже вот-вот должны быть фашисты, то и ей нужно бежать в Ленинград. Нина вытащила две бумажки, отдала их мужу хозяйки и попросила, чтобы он подвёз её до станции. Мужчина ответил: «Выйдем рано, проспишь – можешь попрощаться со своими деньгами».
Нина сбежала утром через окно. Всю ночь она шепталась с Костей и старалась уговорить его, чтобы он тоже бежал, но мальчишка сказал: «Нет, я этого делать не буду, мне дома попадёт». А одна девчонка всё услышала и напросилась с Ниной.
В дороге у мужа хозяйки снова сломался воз, и сено повалилось на бок, а за сеном повалились и девочки. То, как он ругался, было непонятно Нине — она вообще не знала таких слов. Пока мужчина чинил телегу, она увидела, как вдали остановилась легковая машина — тогда даже в Ленинграде это была редкость, а уж тем более в Новгородской области. Когда автомобиль остановился, из него вышло двое мужчин: один из них начал разминаться, а второй посмотрел в сторону Нины и направился к телеге. Почему-то — этого даже сама Нина Васильевна объяснить не может — она тоже пошла навстречу к этому мужчине, как потом оказалось, это был её папа (Василий Адамович Жизневский), хотя Нина его узнала не сразу.
Потом на этой легковой машине они отправились обратно в Новгородскую область. Нину выставили из комнаты, а Василий Адамович разговаривал с Асеевной. Они не забрали никаких вещей, а папе выдали лишь доверенность на мальчика, которого Нина не знала.
Нина, Василий Адамович и мальчишка благополучно вернулись в Ленинград. Мальчишку они завезли на 17-ю линию Васильевского острова. Всё происходило очень быстро, папа нервничал, торопился, хотел отвезти дочку поскорее домой. Когда они приехали, он отдал ключи со словами: «Вот тебе ключи, за ворота дома ни шагу». Родители Нины работали на заводах и состояли на казарменном положении, но потом папу призвали, как выражался Василий Адамович, на охрану города.
Приятным воспоминанием осталась фабрика-кухня, на которой питались работники заводов, состоявшие на казарменном положении. Мама давала мне деньги, и я ела сосиски с гарниром, но в один день мне сказали, что они закрываются… Так я поняла, что нужно готовить дома. Появилась буржуйка, готовила на керосинке (керосин выдавали по карточкам).
Мама показала, как варить суп, ведь родители приходили редко, и приходилось справляться самой. Когда наступила зима, стало совсем тяжело, но девушке пришла на ум идея сварить костяные пуговицы и получить костяную муку (пришлось распилить деревянную полку, которая висела на кухне, для растопки буржуйки). А ещё у Нины была аквариумная рыбка. И в один из дней войны, когда мамы долго не было, девочка заметила, что рыбка плавает брюхом кверху – корм закончился, и кормить её стало нечем. Нине ничего не оставалось делать, кроме как её приготовить.
Эти истории – только одна капля из всего того океана эмоций, тягот и увиденного, что пережила Нина.
Отец Нины Васильевны умер 24 января 1942 года. После его гибели маму отправили в Шлиссельбург для помощи в подготовке операции «Искра». Дорога из воды и грязи, ноги всегда мокрые и холодные… Нина была в тяжёлом состоянии, и мама взяла её с собой, поскольку там довольствие было лучше, чем в Ленинграде. «Почему-то я выжила – мне сварили травы и так выходили меня, после чего я начала помогать нашим».
После выздоровления Нина не осталась в стороне: её задачей была передача документов, так называемый «срочный пакет». Ей приходилось по двенадцать километров идти пешком по шпалам в страхе встретить на пути врагов. На этот случай девочка знала, что надо говорить: «Бумаги нашла, несу на растопку к больной тётушке в деревню». К счастью, такого случая ни разу не было. Самым же страшным было для Нины – это не доставить вовремя срочный пакет в штаб, ведь приходилось идти по открытой местности под постоянными обстрелами.
Когда после горьких поражений прорвали блокаду, это была такая радость! Я тогда полгода жила в районе Невской Дубровки, где средняя продолжительность жизни на Невском пятачке солдата считалась 60 часов, а на квадратном метре земли потом находили более 10 кг металла - настоящий ад. Волновалась, что от мамы долго не было вестей. Потом оказалось, что она погибла после прорыва блокады в 1943 году (ей посмертно дали медаль «За боевые заслуги»). С мамой не удалось попрощаться…
Затем Нина вернулась в Ленинград и с подругами ходила в госпиталь, где ухаживала за ранеными. Тогда девушки любили говорить: «Доживём до Победы!»
Снятие блокады также стало важным событием для всех ленинградцев. От салютов разлетались стекла, люди текли рекой и танцевали, несмотря на холод и голод. Ленинград выдержал – он был живой!
«Утром по дороге в школу объявили о Дне Победы, и в тот день до школы мы так и не дошли - такая радость и восторг были в толпе, эмоций не передать, всё закончилось, наконец-то! Но, вернувшись домой, я тихо плакала так, чтобы никто не слышал - было чувство удовлетворения, однако самых родных и близких друзей забрала война. Помню, как мама писала, что когда Победа будет, то мы всех вспомним и мы отомстим… А я думала - как можно отомстить за тех, кто уже умер?»
После школы Нина Васильевна поступила в Ленинградский станкостроительный техникум - тогда, в 1946 году, по приказу И.В. Сталина развивалось станкостроение и инструментальная промышленность. После его окончания пошла в Политехнический институт, а в 1948 году родилась дочь – Нина успела сдать только английский язык на отлично. Потом работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте «Электрон-стандарт». На пенсию ушла ведущим инженером, у неё до сих пор хранится трудовая книжка, в которой 40 записей (в том числе многочисленные благодарности, поощрения и т.д.). В настоящее время Нина Васильевна живёт со своей дочерью, которая работает врачом, у неё замечательный внук, и недавно она стала прабабушкой, чем очень гордится.
«Молодёжи я советую всегда договариваться. Сейчас другое время, и главное - это не допустить войны, которая станет уничтожением всего живого. Я считаю, что патриотизм – это любовь к ближнему, желание защитить и добиться того, о чём мечтаете». #МечтаОМореВОбменНаВойну #ГерманцыИКирпичнаяВойна #30РублейЗаВыживание #СрочныйПакетНинки #БуржуйкаИКостяныеПуговицы #АквариумнаяРыбкаНаУжин #60ЧасовНаНевскомПятачке #ТанцыПодСалютыСБитымиСтеклами
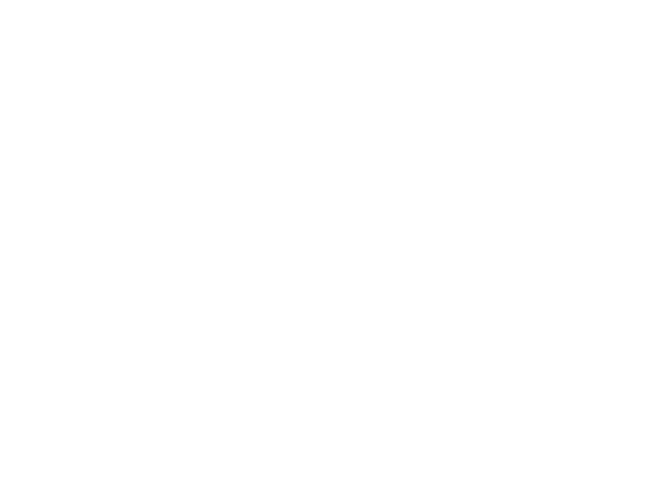
Служила в должности фронтовой медицинской сестры в санбатальоне (на Третьем Белорусском фронте, под Сталинградом, в Прибалтике, в Кёнингсберге, а после Победы СССР над Германией в мае 1945 года была переброшена на Дальневосточный фронт и закончила войну в Маньчжурии.).
Вера Григорьевна Кузьмина — по образованию зубной врач, но во время войны была медицинской сестрой и ассистировала хирургам.
Вера Григорьевна родилась 24 июля 1922 года в селе Николина Балка, Ставропольского края, и когда началась война, ей было почти 19 лет. Она только закончила зубоврачебную школу в Чернигове. В день объявления войны Вера Григорьевна гуляла по городу - стояла тёплая, солнечная погода, вдруг засуетились, забегали люди, кругом закричали: «Война началась». Вера с друзьями, с которыми закончила зубоврачебную школу, пошла прямиком в военкомат, говорят: «Берите нас на войну». Их выгнали: не доросли ещё.
Вера была маленькая, худенькая, не похожа на взрослую женщину. После военкомата её по распределению направили в Черниговскую область в посёлок Сосница. Вера нашла председателя сельсовета, который показал, где находится нужный здравпункт. В нём никого не было, двери закрыты. Сам председатель уехал вместе с семьёй, а Вере разрешил жить в его доме. Вместе с домом осталась корова — Вера не знала, что с ней делать - чем кормить и как доить. Попросила соседей забрать — забрали. Потом они поняли, что Вера одна и взяли её к себе в семью.
Но вскоре Вера ушла на фронт, присоединившись к шедшим туда войскам. Ехала на обычной телеге, запряженной повозочной лошадью до Харькова. Помнит, что по дороге люди бросали листовки с информацией, что у Иосифа Сталина взяли в плен сына. Днём передвигаться было нельзя — бомбили. Вспоминает, что в сборно-распределительном пункте для медиков у неё спросили, почему она такая маленькая, но когда узнали возраст — замолчали. Веру распределили в медико-санитарный батальон или медсанбат. Там держали месяц: дали брюки, кальсоны, рубашку и распределили в воинскую часть, ближе к фронту.
Отец Веры, Григорий Васильевич, погиб на фронте почти сразу, ещё в 1941 году, попав в первую волну призыва. А мать, Валентина Ильинична, и младшая сестра Надежда, оставшиеся в Чернигове, долгое время не знали, что Вера на фронте. И она ничего не знала о судьбе своей семьи в оккупированном фашистами родном Чернигове.
А свои фронтовые будни Вера Григорьевна вспоминает так: «Когда начинался обстрел, шёл большой поток раненых. В палатках стояли носилки, на которых перевязывали раны, меняли бинты. Полуторки везли снаряды, на обратном пути они забирали больных, везли в тыл. Если начиналась гангрена, вызывали самолёт». Как-то раз Вера чуть не полетела на самолёте, но в последний момент испугалась.
В начале медсанбат передвигался за войсками на лошадях, потом им выдали санитарную машину. Всего их было пять человек, группа называлась «ОРМУ» (отдельная рота медицинского усиления). Отдыхали только когда затихал бой и переставали рваться снаряды. Собирались, пели песни, вспоминали родных. Каждый думал о своём доме.
Ели из котлов, приезжала палатка с душем — раз в две недели, в месяц (этим занимался специальный санитарно-эпидемиологический отряд). Вера Григорьевна вздыхает: «Всё время горох. Утром горох, днём горох, - ветеран признаётся, - думала, никогда больше не смогу его есть».
Осенью 1942 года доехали до Сталинграда — на Волге два войска по двум разным сторонам горы. У Веры была палатка на самом берегу — она принимала раненых на перевязку с другого берега. Вспоминает, что во время перевозки паром бомбили — он был весь в крови.
— Раненых мне жалко было, так хотелось им скорей помочь, что-то сделать для них. Очень переживала, когда они умирали. Я стояла над этими мальчиками, просила: «Не умирай, только не умирай».
Зимой начались сильные морозы. Вере дали машину и отправили на передовую вытаскивать раненых.
— Я ехала, а по мне стреляли. Не могла понять, что так жутко свистит. Спросила у водителя. Оказались мины.
Вера Григорьевна с удивлением замечает, что бомбили много — как-то у неё даже оторвало сумку — но на ней не было ни царапины. А однажды она стояла за операционным столом и, когда началась бомбёжка — пол вместе с Верой провалился в подвал.
— Зато арбузов было… — с улыбкой замечает Вера Григорьевна, хочет рассказать про арбузы подробнее, но вспоминает про обстрелы, — а как страшно, когда они бомбят... Я не знаю, кто говорит, что не страшно. Очень страшно.
Вера на слух научилась определять, какие летят самолёты: первым обычно разведчик, за ним бомбардировщики: «Мы скорее ложились на землю… кажется, летит прямо в твою голову» — так она описывает впечатление от падающих бомб.
Вера знала, когда начнётся наступление – видела, как к нему готовились, сколько было орудий - через каждые полкилометра стояли «Катюши», которые тогда только появились.
— А как начали грохотать — это ужас какой!
Вера Григорьевна уверена, что у Сталинграда была особенная роль:
— Я всегда считала и считаю, что Сталинград — это окно к победе, потому что после него началось наступление по всему фронту. И народ уже чувствовал победу.
После освобождения Чернигова, 21 сентября 1943 года, Вере дали отпуск на десять дней, собрали с собой сухарей и отправили домой. Стоял уже мороз и Вера была так укутана в шапку и полушубок, что войдя в собственный дом, она услышала слова своей матери: «Солдатик, Вам кого?» Мама не могла поверить, что перед ней стоит любимая старшая дочь.
Во время поездки в теплушке на восток через Смоленск Вера началась писать дневник, чтобы знать, где едет. Но блокнот нашли работники НКВД и чуть её не арестовали — испугавшись, она прекратила его вести.
Вспоминает, как было сложно в Прибалтике — жители ненавидели русских, бывало, что стреляли по ним из кустов. Помнит, какие кровавые бои шли в Кёнигсберге (ныне Калининграде): немцы понимали, что им нельзя сдаваться, хотели уплыть на пароходе. Но всё закончилось и Веру повезли дальше, а куда — место держалось в тайне.
Известие о долгожданной Победе застало их в городе Куйбышеве на ж/д станции. Вера очень хорошо помнит момент, когда узнала о победе. Поезд стоял на остановке, вдруг люди начали кричать: плакали, бежали к вагонам, обнимались. Вера тоже плакала.
По крикам она узнала о начале войны, и по крикам же — теперь счастливым — о том, что война закончилась.
Дальше - Япония, куда добирались через границу с Китаем — на поезде и на машине. Кругом раненые, всё как всегда.
— Помню, как мы там японцев взяли в плен.
Ехали на санитарной машине, видим: тридцать японцев на конях. Они заметили машину и выкинули белый флаг. Солдаты сказали пленным японцам ехать в штаб.
Оттуда их отправили по тому же маршруту на Дальний Восток. Во Владивостоке Вера Григорьевна, наконец, начала работать по специальности - зубным врачом в гарнизонной поликлинике, но продолжалось это недолго.
Потом их войсковую часть перебросили в Брест, в Белорусский военный округ, где она познакомилась со своим будущим мужем, Виктором Васильевичем Ореховым - военным хирургом, а в 1952 году вышла за него замуж.
После окончания Второй мировой войны нарастало противостояние Советского Союза и стран капитализма, мировая обстановка накалялась. Наша сторона должна была заявить о себе как о крупнейшей мировой ядерной державе. Поэтому в сентябре 1954 года были проведены общевойсковые учения с применением атомного оружия под командованием Маршала Советского Союза Жукова Г.К. Полк, в котором служила Вера Григорьевна с мужем, принимал в них участие. У ветерана остались очень тяжёлые воспоминания об этом времени: «Оренбургская степь, жара под 40 градусов, солдаты роют окопы в землянке, стоят блиндажи, метки, разворачивают госпитали для условно раненых и поражённых». В момент взрыва Вера Григорьевна находилась как в песне «В землянке в три наката». В 9 утра сначала качнулась земля, а потом раздался взрыв. Когда вышли на поверхность было темно как ночью, всё в пыли, шёл крупный дождь.
За участие в этих учениях Вера Григорьевна получила статус «Ветеран подразделений особого риска».
После учений их воинскую часть расформировали и они с мужем были переведены - в Румынию, в город Констанцу, где прослужили около 5 лет. Затем снова был Брест и служба в Заполярье в Мурманске. Откуда муж Веры Григорьевны был направлен в Военно-Медицинскую Академию. Так семья оказалась в Ленинграде, когда у них уже подрастала дочь-школьница. Вера Григорьевна вернулась к мирной жизни и работе зубным врачом, которым проработала до 90 лет. Дочь Веры Григорьевны продолжила семейную врачебную династию, она кандидат медицинских наук и работает в одной городских больниц Санкт-Петербурга. Также у Веры есть заботливые внуки.
#тяжёлыевоспоминания #медсестра #фронтовыебудни #помощьраненым #ветеран #кузьминавера #жизньмедика
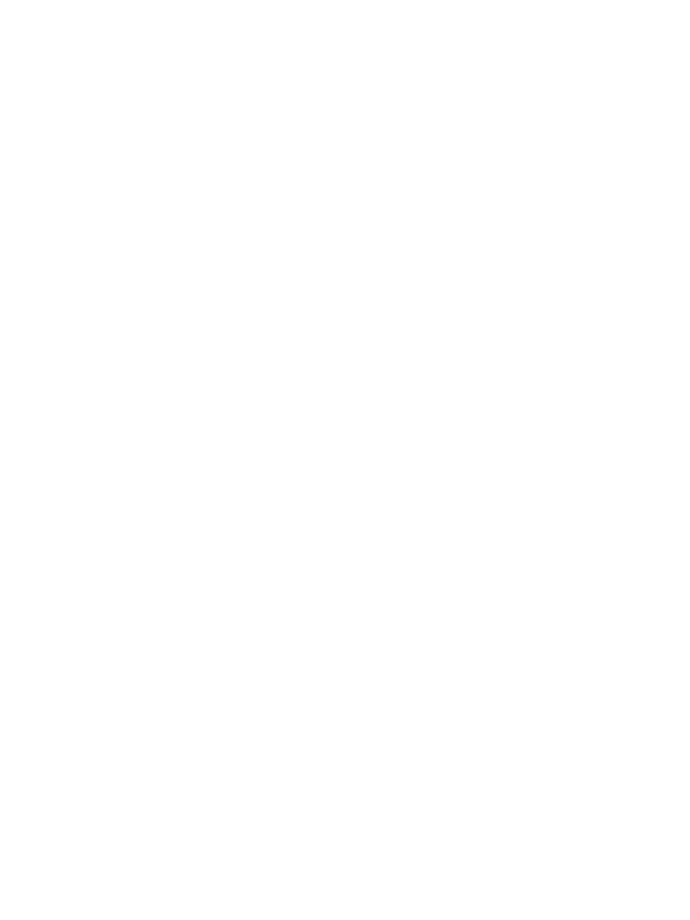
Я родилась в 1939 году. Из детства помню многое, но «картинками». Наша семья жила на Васильевском острове, где точно — уже забыла. У нас с родителями была одна комната, а в другой проживали моя двоюродная бабушка, мамина тётя и её муж. Их сын учился в институте.
Моя мама, Надежда Матвеевна Морозова, родилась в крестьянской многодетной семье в Смоленской области. Мама рассказывала, что к 1930 году они стали жить хорошо: в хозяйстве даже была своя лошадь по кличке Мальчик. Когда в деревне образовался колхоз, весь скот забрали. После того, как семью лишили лошади, мама уехала в Ленинград.
Папа, Михаил Павлович Гусев, родом из Тверской области. Помню его плохо, но знаю, что он трудился на судостроительном заводе имени Андре Марти. Мы жили скромно, но папе удавалось содержать семью. На лето он даже снимал дачу: там были сделаны мои детские фотокарточки.
Блокаду запомнила отрывочно: холод, голод, артобстрелы. От куска хлеба могли оставаться крошки, я ползала под столом и искала их.
В 1942 году от голода умер отец. Помню, как мама спросила, жалко ли мне папу. Я сказала, что нет. Почему я так говорила, и сейчас не понимаю. Мне было 4 года. Конечно, неправильно это было сказано и жестоко. Потом, повзрослев, я об этих словах горько пожалела. У меня не сохранилось даже фотографии отца: его маленький снимок на паспорт я бережно хранила в кошельке, который однажды украли.
Тогда же, в блокаду, умер супруг двоюродной бабушки, Натальи Олимпиевны Григоровой. Мы остались жить втроём. Помню, все окна в нашей квартире были заклеены. Возле одного из окон стоял стул, где мы пили кипяток. В другой комнате находилась буржуйка.
Во время обстрелов мы никогда не ходили в бомбоубежище. Я пряталась в пространстве между двумя широкими дверями. Сейчас понимаю, что это меня бы не спасло. Особенно мне запомнилась история одной из бомбёжек. У двоюродной бабушки был пуховый платок, который спасал нас от холода. Однажды в наше окно влетел снаряд: он проломил стену и попал в другую квартиру. К счастью, взрыва не произошло. Потом наш платок так и не нашёлся: видимо, его вместе с собой унёс снаряд.
Казалось, что трагедиям не было конца. Помню, мы пришли к бабушке по маминой линии. Она лежала пластом: в тот день умерли четверо её детей. Все они, три сына и дочь, работали на заводе Марти, куда устроились после приезда из деревни. Другой мой дядя, офицер, погиб на фронте. Выжили только мама и один мой дядя, это было очень страшное время.
После снятия блокады мамина тётя уговорила нас поехать в Ставропольский край на поиски её сына: туда его отправили в начале войны вместе с институтом. От него не было никаких вестей, поэтому Наталья Олимпиевна решилась на этот отчаянный шаг. Добраться до Ставрополья было трудно: путь неблизкий, поезда бомбили. Но маме и тёте удалось доехать. Сына не удалось найти ни тогда, ни после войны. Наталья Олимпиевна не сдавалась, писала письма в организации, делала поисковые запросы. Вероятнее всего, сын погиб, иначе он дал бы о себе знать.
Мои самые яркие воспоминания со Ставропольского края — это семечки и тутовник. Помню, увидела женщин, которые сидели во дворе и грызли семечки. По сравнению с жизнью в Ленинграде, это — настоящая еда. У них «борода» вся в шелухе от семечек, они как размахнулись, как бросили её. А рядом росло дерево шелковица, или, по-деревенски, тутовник. На нём висели плоды, похожие на малину. Когда они падали, их можно было кушать.
Мы жили в нескольких местах: Розовке и Марьиных Колодцах. Мама решила остаться в этих краях, ей предоставили работу и маленькую семиметровую комнату. Позже мама вышла замуж.
В 6 лет я пошла в школу. Моя учительница, Ксения Ивановна, вела уроки сразу у четырёх начальных классов. Каждому она давала отдельные задания: так мы и учились.
В Ставрополье мы встретили День Победы. В тот день, 9 мая 1945 года, было очень тепло и солнечно, я гуляла на улице. Умирать буду, наверное, с этим впечатлением. Никогда не забуду День Победы. Когда его объявили, все были счастливы: обнимались и поздравляли друг друга.
В 1946 году семья приняла решение вернуться в Ленинград. Это было сложно: не было ни жилья, ни работы. С трудоустройством помог дядя, и маму взяли дояркой в подсобное хозяйство завода имени Андре Марти. Через год она родила вторую дочь.
Я в Ленинграде пошла учиться в третий класс, в то же время жила у бабушки, Анастасии Олимпиевны Морозовой. Она часто отправляла меня в магазин, где на прилавках стояли рыбные деликатесы, красная и чёрная икра, но ничего из этого мы купить не могли. Бабушка варила суп из селёдочных голов, а из замоченной овсянки готовила кисель.
Когда вернулась к маме, отчим был болен туберкулёзом, и я заразилась. Лишь в 19 лет, решив навсегда избавиться от своей болезни, я согласилась на операцию по удалению доли легкого, а через три года меня сняли с учёта.
После 7 класса я ушла в библиотечный техникум, окончила его с красным дипломом и пошла работать в библиотеку Грузино, потом — в исполком местного сельского совета, секретарём. Позже трудилась на заводе в Капитолово при Институте прикладной химии. До сих пор удивляюсь, как я тогда выжила и после сложной операции дожила до такого возраста.
#блокада #блокадноедетство #трудноедетство #голодныегоды #морозовалюдмила #семейноегоре #туберкулёз
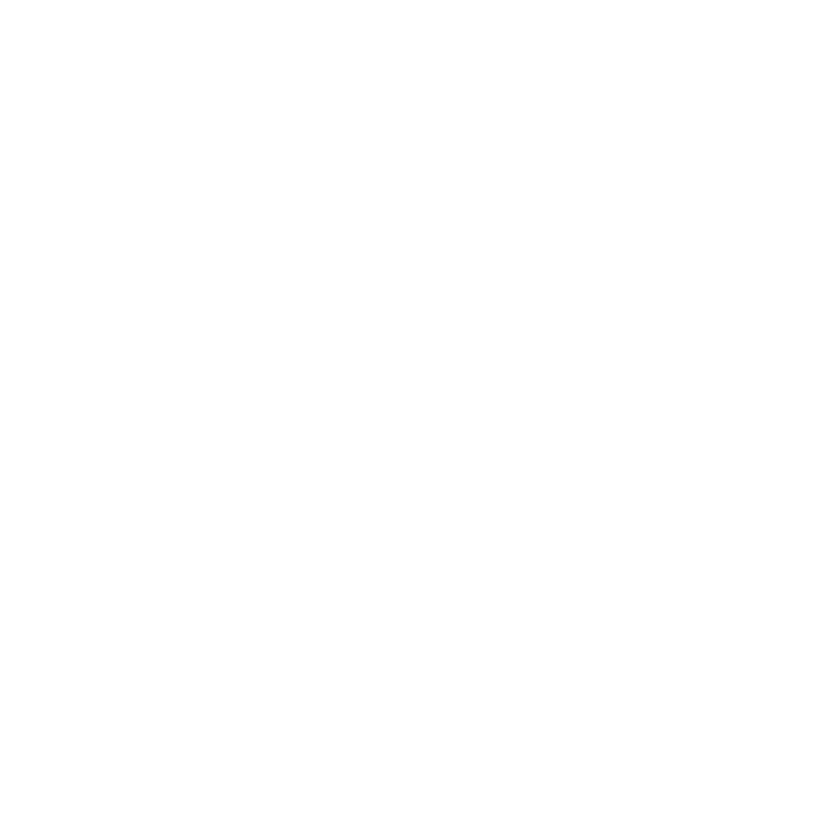
Отца моего звали Иван Семёнович, он был 1887 года. Мать звали Екатерина Антоновна. У меня были братья и сёстры еще. Старшую сестру звали Мария, она была 1910 года, её муж погиб 9 мая 1945 года, прямо в День Победы. Брат Иван родился в 1919 году, он был зенитчиком во время войны. Второй брат Алексей 1925 года, он до Берлина дошёл, разведчиком был. Сестра Раиса была одногодкой с Алексеем, она в партизаны ушла.
Когда пришли немцы, то они начали угонять молодых ребят в Эстонию на работы. И вот стали брать мальчиков от 12 лет. А это как раз мой 1929 год. Врач в селе нам с ребятами год-другой в документах написала, мы стали на год младше, 1930 года. Благодаря ей, нас тогда не взяли и мы остались дома. А нас пятеро таких было.
Двоюродный брат Фёдор Цветков ушёл в партизаны в 1941 году. Он был председатель райисполкома города Острова. А когда немцы пришли, то куда деваться? Всех начальников расстреляют же. Вот он со своими товарищами и начал организовывать партизанское движение. Товарищи его были председателями райисполкома, горкома, секретари разные, человек 50 их набралось. В деревни уходили к знакомым, да родственникам. Потом немцы, когда стали узнавать, где они, сами облаву не делали, а запускали собак, и собаки их рвали. Вот так начиналось партизанское движение.
Жену Цветкова сразу же забрали в тюрьму, там её пытали. От плеч до пояса вырезали ремни, то есть лоскутки кожи срезали. Всё хотели узнать, где муж находится. Вот как такое перенести можно было? А она была учительницей в школе.
На мою семью был сделан донос, и мать с отцом в тюрьму посадили, потом ещё и Раису посадили, но её там не трогали, она молодой была. Отца пытали, хотели узнать, где партизаны находятся. Ему петлю на шею надевали и придушивали. В итоге их расстреляли. Но потом их всех две бригады освободили.
Когда мою семью посадили в тюрьму, меня рядом не было. Я как об этом узнал, сразу в лес сбежал. Потом я к тюрьме иногда подходил, но однажды мне сказали, что моих родителей уже расстреляли.
Когда стал партизаном, то сначала попал в 6 бригаду к брату, а потом в 3 бригаду под Псковом - это была бригада Германа. У Германа было тогда 12 тысяч человек! А ведь всех надо было накормить, напоить, одеть, да обуть. Тяжело ему было. Много вокруг него молодых ребят собралось.
Немцы ещё как делали - если родственник партизана, то сразу расстреливали. Даже младенцев! Вот все и стали уходить в партизаны, даже дети лет 11-12 тоже, ведь некоторые из них остались без родителей. Потом и ребята постарше в партизаны начали уходить, молодёжи много стало, так как народ стали агитировать идти в партизаны. Иногда ночью к нам приходило по 200 человек новеньких, а ребятам было лет по 17. Они сразу на учение попадали - партизан обучали обращаться с оружием с минами и т.д., - ну а потом уже выполняли задания как взрослые.
Бои были практически каждый день. Или партизаны немцев атакуют, или немцы партизан. Немцы как загонят партизан в лес, да дней по 10 в болотах держат. В таких местах даже весь мох был съеден, голод хуже, чем в блокадном Ленинграде. Ещё и раненые были, вот и куда их девать?
У Германа я был сын полка, был в разведке в «засекреченной тройке», о нас таких мало кто знал. В разведку шли обычно: два мальчика, две девочки. И нас тысячи таких было. Мальчики и девочки, которые уходили в партизаны, были самые лихие, они выполняли самую главную роль, пробирались в гарнизоны и узнавали необходимую информацию, сколько там личного состава, какие военные силы имеются, что с питанием, что с топливом. Так и работали в бригадах. А взрослым нельзя было попасть в гарнизон, как увидят тебя, значит партизан, даже не разбирались и расстреливали.
Ещё мы минировали поля, взрывали эшелоны, рельсы, паромы. Если взрослый человек полезет рельсы взрывать, его быстро заметят и откроют огонь. А маленьких детей не замечали. Мы по кустикам перебирались, потом ползли к рельсам, все подкладывали и взрывали.
Зимой было ужасно, холод лютый. Партизаны в лесу нам помогали, шубёнку накинут да минут на 5 глаза дают закрыть, потом сразу подъём и бегать заставляют, чтобы ты не замёрз. Иногда в деревню зайдёшь, а там тебя на печку пустят погреться, да поспать.
Однажды, мы пошли в город Остров на разведку, я, Колька и две девочки. Одной 11 лет было, второй - 12, нам с Колькой тоже по 12 было. До города не дошли, стало темно, хотели переночевать в одной деревушке спокойной, чтобы поутру встать и пойти дальше. Но девочки предложили подойти ближе к городу в другое место, а там гарнизон был. Ну, мы и пошли. А в гарнизоне часовые стояли в метрах 50 друг от друга. Мы как в гарнизон вошли, сразу в дверь давай стучаться. Бабуля деду кричит, мол, там маленькие дети пришли, беженцы из-под Старой Руссы, своих родных ищут и переночевать просятся. Он, мол, открой, пущай заходят. А в этот момент староста часовых вышел, подошёл к одному из них и говорит: «Это от партизан, вяжите их!» Нас сразу же схватили, и давай девочек избивать. Одну девочку так сильно били, что она не выдержала и созналась, что от партизан - ей тогда всего 11 лет было. Девочек сразу же на месте и застрелили. А нас с другом в машину кинули как поросят, и повезли в город Остров в тюрьму.
Там нам номера на груди выжгли, мне четвертый номер, а Кольке пятый и держали в разных камерах. Все камеры были битком забиты. Водили на допросы, выведут во двор, а там партизан себе яму роет, в него стреляют, он в эту яму и падает. Вот они нам говорили: «И тебе такое будет, если не скажешь, где партизаны находятся!» Потом к виселице подведут, смотришь, а там люди висят, и снова: «Вот не скажешь, где партизаны, и тебе такое дело будет!» Еще плетью потом разок-другой ударят, но мы молчали.
Голодали мы ужасно, нам горохового супа принесут чуть-чуть и всё. А зачем кормить, если тебя к расстрелу готовят? А так, охрана часть нашей еды съедала. Отсидели мы там с другом месяцев шесть. А потом нас две бригады освободили: Германа и Васильева. Но поскольку гарнизон там большой находился, к тому же на подмогу к ним быстро могли немцы подъехать из Пскова или из Пушкинских гор, у них же техника была хорошая, на машинах все, то действовать надо было скоро. Вокруг был трёхметровый забор, там проволоку перерезали и стали нас перекидывать. Кто через стенку перебирался, тот жив оставался, а оттуда - сразу в болота и в лес.
Когда меня перекидывали, случился какой-то взрыв. Я ничего не понял, пока далеко не ушёл. А оказалось, что один часовой спрятался где-то, а потом гранату кинул. Погибли тогда наши товарищи. А уже в лесу меня подхватили партизаны, смотрят на меня и говорят: «А что у тебя кровь на руке? И почему с ботинка кровь течёт?» Оказалось, что рука осколком перебита была, да ещё и в лёгкие осколок попал, вот кровь и текла вниз. Когда до партизан в лесу добрались, то у медбратьев уже пила подготовлена была, чтобы мне руку отпилить. Но тут пришла евреечка, она была старшим лейтенантом. Ух, как она ругаться матом стала на всех, никогда я не слышал, чтобы евреи, да ещё и женщины, ругались матом. А она всё материлась: «Вы что же это, мать-перемать, маленького ребенка хотите без руки оставить?!» Ну а потом сама за меня взялась, всё вытащила, что лишнее, металл вставила да обработала меня. Дальше я был отправлен в Калининскую область (ныне Тверская), в деревню к бабке с дедом. У них я уже отъелся, а так как одна-то рука работала, то ещё и помогал им всячески, дрова носил, воду. Но через месяц сбежал обратно в свою бригаду.
Мы с другом дали тогда клятву, что за каждую убитую девочку по 15 немцев уничтожим. Ну мы так и сделали потом. Мы же мины на полях разминировали, а потом этими минами подрывали, что нужно. А гарнизоны в деревнях маленькие были, где-то по 15 человек, а где-то и вовсе 10. Ну а ты знаешь всё про них, в каком доме живут, куда ходят. Следишь за ними неделю-две. Уже знаешь, где и как часовой стоит. Ну а потом подрываешь.
А ещё мы этими минами рыбу глушили, когда на рыбалку ходили. Зачем с удочками сидеть ждать, когда можно мину поджечь, кинуть, а рыба сама кверху пузом всплывёт. Потом мосты подрывали, эшелоны, паромы - всё делали.
Помню, как мы паром взрывали. Наши девочки недалеко в деревне ждали, слушали, будет взрыв или нет. А паром был большой, через реку Великую, и на нём часовые с двух сторон стояли. А как часовых-то отвлечь? Ну вот я подошёл к часовому, попросил закурить, а он мне пинок под зад, мол, катись отсюда. Тогда мы рыбку словили, а рыбка мелкая. Принёс ему, снова попросил сигаретку, а он не даёт и рыбу не берёт. Зачем ему маленькая-то? Тогда мы в деревню пошли и рассказали дяде Коле про наш план, а у него два сына было и оба партизаны. Он нам и сказал, чтобы мы завтра приходили, всё нам сделает. А сам сеть поставил, да словил щук огромных. Ну я и понёс одну из щук к часовом и опять сигаретку спрашиваю. Тогда уже он мне сигарету дал, а я ему, мол, две давай. А он: «Нихт!» Одну дал и всё. Но часового отвлечь удалось, он пошёл к другому рыбу показывать. Друг же мой в это время уже готов был. Он там с сумочкой стоял, в которой тротил лежал. Мы нашу взрывчатку оставили, крюк на мосту подвесили, шнур через него продели, фитиль подожгли и уплыли на плоту по течению - нас далеко отнесло. Когда случился взрыв, мы плот уже давно бросили и по лесу бежали прочь. Но за этот подрыв мы от Германа чуть расстрел не получили. Он отругал нас, что мы без согласования всё сделали.
А как мы вообще узнали, что паром подорвать нужно? В доме моего отца был штаб Германа, там проводилось собрание командиров. Мы с другом в это время на печке за стенкой лежали, вот и подслушали случайно весь разговор. Командиры обсуждали, как выполнить задание с минимальными потерями. Ну мы и решили всё сами сделать, а девочек подговорили подождать нас и ушли. Когда мы паром подорвали, они стали разбираться, кто же это сделал. Один нас просёк, как мы вернулись, и говорит: «Так это же твой Павлуша сделал!» Ну, Герман сразу мне: «Ну все, Павлуша, тебе выговор! А за такое несогласование вообще и расстрелять бы надо!» Припугнул он нас тогда. Зато, когда гарнизон стали брать, ни одного партизана не потеряли! Потом сразу второй взяли, много пленных было. После этого задания, он нам сразу по медали дал! Так что мы задание своё выполнили.
Ещё мы два эшелона подрывали. Нас тогда взрослые партизаны взяли с собой на задание. Но я не один маленький ходил на это задание, со мной ещё одного пацана отправили. И вот мы лазили по кустикам и траве да закладывали тротил под рельсы. Потом шнур поджигали и быстро уползали. Тротил был как кусок хозяйственного мыла, некоторые куски грамм 200 весили, а некоторые грамм 400 - в зависимости от задания. Взрослые в этот время с двух сторон сидели и прикрывали нас, смотрели, чтобы часовой нас не заметил. Ведь, если часовой тебя замечал, он сразу огонь открывал. Тогда взрослые партизаны сразу убирали его, чтобы тебя не застрелили. После этого подрыва нам с парнишкой орден дали.
Чтобы в деревню войти, тоже маленьких брали. Нас посылали узнать, есть ли в деревне немцы. Ведь, если есть, то детей всё равно пропускали, почти не трогали. Помню, как по кусточкам пошли с другом в деревню, дошли до домика, стучимся к бабке. А бабка и говорит: «Дедуля, беженцы пришли, ночевать просятся». А он, мол, пусти их на печку, пусть греются. И в это время бабуля мне: «Уходите отсюда быстрее, видите мотоциклы стоят? Немцы у нас в бане парятся!» Ну, мы бегом к своим разведчикам в лес да рассказали, что немцы в бане. Ребята были сильные, здоровые, лет по 25. Они сразу же ползком к бане. Часовой там то кругом ходит, то в предбанник зайдёт. Вот зашёл в предбанник, там его и подкараулили, фуфайку ему на голову, он даже звука никакого издать не успел. Потом дверь открывают: «Хенде хох!» А там немцы голенькие, их так голеньких и взяли.
Оказалось, что там офицеры большие. Лейтенант Николай Васильевич тогда говорит своему товарищу: «Давай мы с тобой переоденемся в немецкую форму, а их в партизанскую оденем, так и поведём пленных в штаб». Хотели хвастануться, что офицеров немецких в плен взяли да раздели. А чтобы до штаба дойти, надо было ещё часовых всех пройти, ведь наши партизаны за каждым кустом тогда стояли. Вот меня и отправили вперёд всех предупредить, что это не немцы идут, а наши переоделись просто. Меня же все знали. И я ко всем подходил и говорил, что вот так и так, вот наш Коля идёт в немецкой форме, а вот Валентин, всё нормально, это наши разведчики, просто немцев в плен взяли. А один часовой ни в какую, взял и выстрелил вверх, чтобы всех вызвать. Весь караул партизанский на уши поставил. Ребята подбегают и кричат: «Да мы свои-свои!» А им говорят, что откуда знать, вдруг немцы маленького подговорили, чтобы вот так до штаба дойти, вас бы сейчас часовой расстрелял, думая, что это немцы идут. В штабе потом Герман отругал всех: «Да я бы вас сам сейчас расстрелял бы! Не надо было стрелять вверх никому!» В итоге ребятам по выговору дали, а нам с другом по медали.
Герман потом погиб под Житницей. Туда несколько раз разведку посылали, немцев там не было. А пока партизаны с леса пешком шли, немцы на машинах быстро в деревню и прибыли. Это была ночь, шёл бой, все в рукопашную да резали друг друга. Германа там и убили. Его тело потом целую неделю на тачке с собой возили, чтобы немцы не нашли, за него награда была. Потом в тыл вывезли и похоронили.
Когда освободили Ленинградскую область и сняли блокаду, стали отбирать ребят: кто был 1926 года рождения и старше, тот до Берлина пошёл, а кому ещё 18 не исполнилось, того в училище отправили. А нас-то куда девать? Мы уже награждённые, мы тоже до Берлина хотим! Нас таких 25 человек было. Но нас на Соловки отправили, там как раз школа юнг открывалась. Мы туда прибыли, а там на нас смотрят и говорят: «Да куда же вас? Вы с медалями, все уже обстрелянные, срочно в Кронштадт!» Вот и перенаправили в Кронштадт. Там мы четыре месяца отучились, кто на кого, кто на радиста, кто на повара, кто на торпедиста, и готовы уже. Я был торпедист-минёр. Нас распределили по кораблям - кто на подводную лодку попал, кто на тральщик, кто на эсминец, кто на крейсер.
Как сейчас помню, подошёл ко мне высокий капитан 2-го ранга, взял за воротничок, а я ростом тогда был меньше винтовки – метр сорок, так он меня взял, поднял и переставил на другую сторону, а потом говорит всем: «Этот маленький мой, никуда его не отпущу, с собой заберу!» Это он так сказал, чтобы на меня другие капитаны глаз не положили. Так я и попал на торпедные катера первого гвардейского дивизиона смертников. Там и начал свою службу.
В море я себя чувствовал хорошо, потом уже привычка была. Хотя многим плохо было. Один наш старший лейтенант увидел волну на причале и упал аж. А если при шторме скажешь про еду, что свининку бы, да пожирнее, то всё, у торпедного аппарата сразу рыгают. Но если шторм был выше четырёх баллов, то мы не выходили на задания.
Служба была тяжёлая, тоже почти каждый день в боях. Командиры у нас были очень хорошие. Ты должен был всё уметь, вот если погиб пулемётчик, ты должен был его заменить, если погиб моторист, тоже должен был его заменить, и вот так всех.
В войну мы корабли топили с катеров, а катер маленький был, экипаж всего 9 человек. И вот такой маленький катер шёл всегда против большого корабля. У нас было четыре катера на дежурстве. Дежурили мы постоянно в ночное время. Но в ночное время как было - если корабль вражеский поймал тебя даже один раз прожектором, то всё, ты уже никуда не уйдёшь. Нас не ловили, так как мой командир Ущев был сильным водителем катеров, он каждую волну знал, где скрыться от немцев можно.
На острове Эзеле наших моряков было 1500, это береговая оборона была. И вот немцы туда плыли, а нам дали задание уничтожить их. Мы зашли в бухту да ветками катера завалили, чтобы не так заметно было. Обсудили, что нам не уйти от эскадры и нас всё равно потопят. Ущев уже тогда был Героем Советского Союза. Он распределил каждому катеру по кораблю, кто кого топит. Иванову дал крейсер, ещё одному - эсминец, другому - два эсминца, вот и нам достался эскадренный миноносец. Меня тогда командир спрашивает: «Павлуша, сынок, тебе не страшно?» А я был хулиганистый, я ему и отвечаю: «А ты-то кальсончики лишние прихватил?» После чего командир заулыбался и понял, что со мной не пропадёшь, я не подведу.
Потом нас заметили. Мы дымовую завесу сразу поставили и начали уходить друг за другом так. Немцы давай стрелять в нас со всех своих орудий. Из-за снарядов море взбушевалось, и волны были такие, словно шторм на море. А задание надо было выполнять как - есть две торпеды, но выпустить ты должен только одну, вторую надо было сохранить из экономии. Хотя проще было две торпеды пустить - одну в корму, другую в нос - тогда крейсер точно на дно пойдет. А так, одной торпедой зад оторвёшь, а его все равно потом немцы утащат на буксире и спасут своих.
Но нам тогда достались уже искалеченные корабли, так что хватило бы и по одной торпеде. Кто в середину попал, тот сразу потопил корабль. Кто в зад попал или в нос и оторвал его, так там пленных можно было брать. Наш один катер 24 человека пленных взял, он аж ниже ватерлинии опустился. Боцман хватает капитана своего и кричит ему: «Ты что же это! Четвёртый раз нас потопить хочешь?!» Тот катер в боях уже три раза тонул до этого.
После боя, когда мы снова вышли с дымзавесы, оказалось, что ещё плывет немецкая баржа, а на ней больше 900 танков. Они на Эзель плыли, где наши были. Был дан приказ потопить его, вот мы её второй торпедой и потопили.
После войны в 1946 году мы разминировали Балтийское море. Рядом с нами всплыла мина и взорвалась. Где и как меня подобрали, я не знаю. Очнулся я спустя семь суток в Таллине, в госпитале. Смотрю, командир лежит, я ему говорю: «Володя, все наши тут? Как себя чувствуешь?» А мне ответ: «Все-все, все». Смотрю, радист в углу лежит. Я тогда думал, что мы еще на лодке. А потом у меня речь оторвалась.
Год меня возили по госпиталям Советского Союза, но вылечили. После этой контузии меня как в дурдоме лечили. Даже током били - я после таких процедур потом вообще ничего не соображал. Сначала заворачивали тебя в мокрые холодные простыни, потом заворачивали в другие простыни, которые были сделаны из плотного материала, как делают шинели. Вот так лежишь и материшься. Как тепло чуть-чуть появляется, потом уже жарко, и ты как в бане лежишь. Тебя поднимают, разворачивают и в душ отправляют. В душе помоешься. Голову помыл? Помыл. Тебя разворачивают спиной, потом током бьют. Ты падаешь, словно мёртвый, такого тебя положат на койку, а там ты спишь сутки беспробудно. Утром просыпаешься, покушаешь и по новой. А у меня всё застужено было, с речью плохо, а врачи все ругаются, флотские же врачи, они погрубее были.
Вот так и получается, что пока я был в партизанах – меня ранило, пока служил на флоте – меня контузило. Когда меня вылечили, я подал рапорт на демобилизацию, а так как инвалидность мне не дали, то получил ответ, что я здоровый и должен свой срок отслужить. Вот и получается, что за компот служил четыре года, ведь 18 не было, и служба не шла. Раньше ещё как было, вот если юнга погиб на флоте, то его и не найдут в списках нигде, так как не числился в них изначально. Ну, я потом ещё пять лет служил на флоте, в итоге все девять отслужил.
После службы Павел Иванович встретил в Ленинграде свою будущую супругу Надежду Павловну, с которой они до сих пор вместе. У них есть сын, двое внуков и уже трое правнуков.
#ветеран #разрушенныесудьбы #партизан #разведка #тяжёлаяюность #подрывыврагов #службавофлоте #семёновпавел
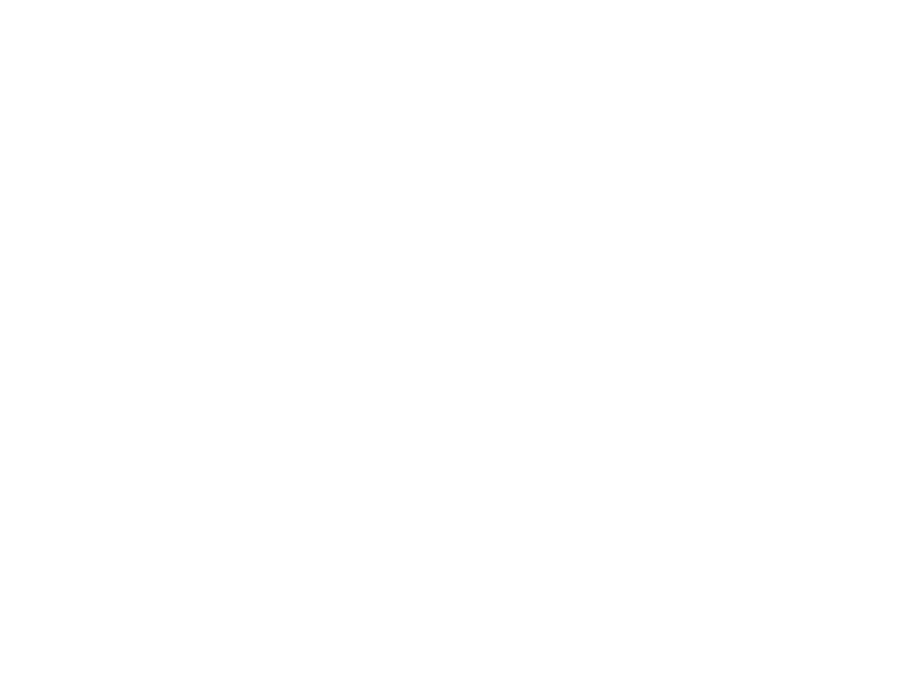
К началу Великой Отечественной войны отец уже успел принять участие в Советско-Финской войне и вернуться домой. Поэтому его снова призвали, но на этот раз он погиб почти сразу - в первые же дни войны. У Веры Павловны даже похоронка сохранилась. Так они и остались с братом, бабушкой и дядей, маминым братом, который не подлежал призыву в армию, так как у него не было одного глаза.
Семья жила в Новгородской области, но вскоре туда пришли немцы и оккупировали деревню. Несмотря на то, что она была маленькой девочкой, у неё осталось в памяти, что лично к ней немцы относились довольно хорошо, даже угощали иногда конфетками. Сейчас Вера Павловна думает, что жандармерия боялась партизан и не лютовала. У них как будто было какое-то мирное соглашение заключено: они не трогали партизан, а те не трогали немцев.
В 1942 г. жандармерия угнала их вместе со всей деревней через территорию Латвии в немецкий город Гродек (совр. территория Польши, г. Кломино - прим. ред.), где находился лагерь для военнопленных. Вера Павловна прекрасно помнит, как во время переезда их постоянно обстреливали. Мама прятала девочку в перине, и она вспоминает, что там совершенно не было воздуха. А когда Верочка просилась наружу подышать, мама говорила, что надо потерпеть, поскольку пуля перину не пробьёт и зато она жива останется.
Пока ехали в Германию, Вера Павловна помнит, что кругом была разруха: много зданий стояли брошенными. Были среди них и магазины. И вот её 10-летний брат, мечтавший о велосипеде, в какой-то момент увидел его на разбитой витрине. Он умудрился каким-то образом отстать от поезда и догнать потом состав уже на велосипеде. С этими магазинами был ещё один забавный случай - старушка, их односельчанка, где-то на остановке тоже увидела на полке банку с повидлом, как она подумала. Она её взяла, конечно же, а когда залезла вовнутрь пальцем, то на вкус это оказался дёготь.
Когда они прибыли в лагерь, то пленных там размещали в больших бараках по несколько десятков человек. Им можно сказать «повезло» - вся их деревня, а это около 40 односельчан, оказалась в одном бараке, поэтому жили как одна большая семья. Взрослые каждый день ходили на работу, а малышей прятали кого где, поскольку знали, что немцы у детей берут кровь. Маленькая Верочка целыми днями сидела тихо-тихо под кроватью, чтобы ничем не выдать себя - помнит, как страшно затекали ножки от такого сидения.
Но иногда всё-таки взрослые отправляли детей «погулять», чтобы подкормить советских пленных. За это несколько раз ей всё-таки досталось плетьми от охраны лагеря. Поскольку за детьми там следили не очень пристально, а маленькие ручки легко пролезали сквозь решётки, то взрослые передавали через них разные лакомства пленникам. Она очень хорошо помнит, как измождённые люди тянули к прутьям решёток свои худые и длинные руки. Случалось, что надзиратели заставали детей за этим занятием и тогда пощады от них ждать не приходилось.
Вера Ивановна помнит, что когда уже после войны возвращались в деревню через Прибалтику, то всё было разрушено, а по обеим сторонам дороги валялись убитые лошади и разбитые повозки. А около их родной деревни была большая могила, за которой ухаживали женщины - но там были похоронены не только наши, но и немцы, так как в земле находили железные кресты. Ещё Вера Ивановна помнит, что однажды кто-то пошёл за грибами и обнаружил в лесу опушку, где под берёзками были могилки с именами девушек. Говорили, что это героически погибшие партизанки.
В школу Верочка пошла уже после войны и в родной деревне окончила 4 класса. А потом ходила за 4 км в соседнюю деревню в школу-семилетку, которую и закончила. Помнит, что времена были послевоенные голодные, ходить было не в чем, так и шла через лес босиком по болотам.
В 1952 году Вера Павловна попала в Ленинград по лимиту, в Школу ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества - прим. ред.) при прядильно-ниточном Комбинате им. С.М. Кирова. Там и осталась, потом вышла замуж, уехала на некоторое время на Средний Урал, но позже вернулась обратно, уже на суконный комбинат им. Тельмана, филиал суконной фабрики «Ленсукно» №2, где и работала до выхода на пенсию.
#блокада #блокадноедетство #трудноедетство #военнопленные #жизньвбараке #смолинавера
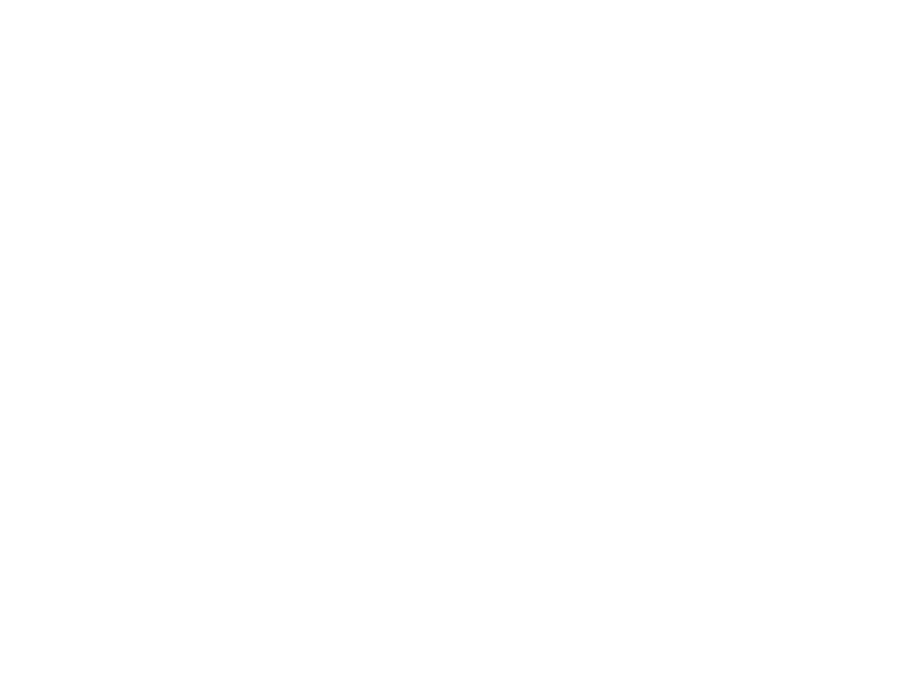
Когда началась блокада, Женечка только пошла в первый класс, но поучиться толком не удалось - уже осенью в здание школы попал снаряд, и она оказалась полностью разрушена. Поэтому всё время она проводила с мамой, Ульяной Алексеевной, - вспоминает, что таскалась с нею всюду, особенно после того, как в начале блокады их квартиру попытались обокрасть, когда девочка была дома одна. Коварные злоумышленники подслушали, как мама, уходя, наказала дочке, чтоб та заперлась изнутри и открыла только ей, когда она вернётся и скажет, что это мама. Они подделали материнский голос и, ни о чем не подозревавшая девочка, с радостью распахнула дверь. Увидев на пороге незнакомую женщину, она чудом успела захлопнуть дверь и накинуть обратно щеколду - с той стороны её уже пытались взломать силой.
Отец, Александр Яковлевич, умер в 1942 году. В начале блокады он работал на заводе “Козицкий”, но зимой 1942 года уже очень ослаб и не мог ходить на работу. Евгения Александровна вспоминает, что однажды его пришёл навестить сотрудник с завода и принёс ему стакан молока. И вот папа молоко выпил, а наутро умер - видимо, организм не справился. Хоронили его сами, сколотили гроб из досочек и отвезли на немецкое кладбище - оно было поближе.
С трудом пережив эту страшную зиму 1941-1942 гг и еле дотянув до весны, Евгения Александровна вспоминает, каким деликатесом для них всех стали одуванчики, которые они с мамой ходили собирать на кладбище. Вспоминает, что у одуванчиков выкапывали корни, чтобы употребить их в пищу.
Тем же летом 1942 года Евгении Александровне удалось эвакуироваться, причём совершенно удивительным образом - к её маме пришла женщина, которая хотела уехать из Ленинграда в Калининскую область (ныне Тверскую), где по совпадению жила и мамина сестра с семьёй. Но в то время эвакуировали только с детьми, а женщина была бездетной. Поэтому она предложила маме взять с собой в эвакуацию кого-то из её детей как своих, а заодно и вывезти их из голодного Ленинграда. Таким образом, Женечка вместе со старшей сестрой Софией уехала вместе с этой женщиной к своим тёте Лизе и дяде Лёше, откуда её мама забрала уже после окончания войны.
Когда они приехали к родным, оказалось, что тётя Лиза совсем не рада гостям, ей не понравилось, что девочки приехали с пустыми руками, без гостинцев. А когда Женечка как городская девочка с интересом стала разглядывать огурцы, растущие в огороде, тётка обвинила её в попытке их воровства и хорошенько отругала. София услышала крик и поняла, что здесь не останется, поэтому уехала на следующий день обратно в Ленинград. Ей было 13 лет, поэтому она решила поехать в ремесленное училище.
— Я просилась, чтобы она меня взяла с собой, но она отказалась, потому что и так ехала без билета, а двоим без билета доехать труднее. Так и уехала на другой день, добралась до Ленинграда и устроилась в ремесленное училище, а я осталась у тёти.
Тётя Лиза постоянно ворчала и за что-то ругалась на Женю. Девочка даже просилась устроиться на работу в колхоз, лишь бы не выслушивать ругани с утра до вечера, но та не отпускала, а заставляла работать на себя, следить за курами и гусями, что было для Жени невероятно скучно. “Вот так, - вспоминает Евгения Александровна, - пойду на огород, где никто не видит, и поплачу”. С ними жили ещё их две взрослых дочери, но с ними отношения тоже не складывались. Единственный, кто хорошо к ней относился - это был муж тёти Лизы, дядя Лёша.
— Он за меня всё время вступался, защищал меня, я для него была как третья, младшая дочка. Помню, как у меня на руке чирии вскочили, так лечил их мне именно он, дядя Лёша. Выдавливал, ошпаривал, делал перевязки… Я его очень любила.
Осенью Женя снова пошла в школу, но вспоминает, что носить было совершенно нечего и она донашивала старую одежду и обувь двоюродных сестёр. Чтобы тётя не ругалась, приходилось терпеть и молчать. Помнит, что в валенках были рваные пятки и туда забирался снег.
— Я встану, сниму валеночек, снег оттуда вытряхну, пройду немного, а он снова набирается. Потом дядя Лёша увидел, что у меня валенок рваный и зашил мне его. После войны, уже в Ленинграде, я рассказала маме как ко мне всю войну относилась тётя Лиза. После этого мама прервала со своей сестрой все отношения.
В сентябре 1945 г. мама забрала, наконец, Евгению Александровну в Ленинград, где та смогла продолжить своё обучение и пойти работать на завод бумажно-беловой продукции "Светоч", на котором и проработала впоследствии всю жизнь. Пела там в хоре, участвовала в самодеятельности.
С хором связан и один удивительный случай, который произошёл с Евгенией Александровной вскоре после войны. Однажды во время пения она внезапно потеряла голос и почувствовала, что просто физически не может петь. Спустя некоторое время голос вернулся, а ещё через некоторое время ей пришло письмо, и оказалось, что ровно в тот самый момент, когда она не могла петь, умирал дядя Лёша.
В хоре, кстати, жительница блокадного Ленинграда поёт и до сих пор. А ещё Евгения Александровна счастливая прабабушка.
#блокада #блокадноедетство #трудноедетство #эвакуация #голодноевремя #эвакуация #румянцеваевгения
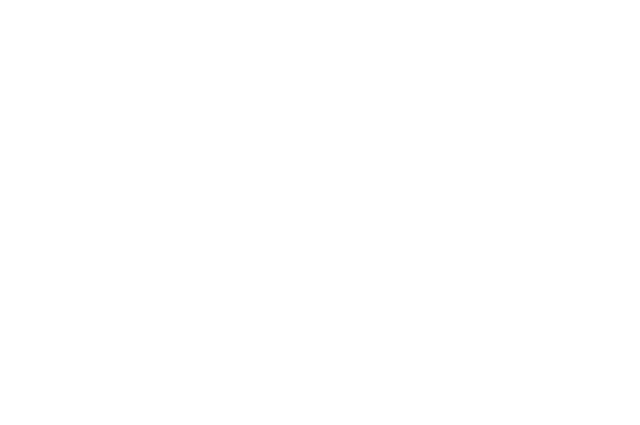
Таня родилась 16 апреля 1932 года в семье учителей: Отец, Валерий Михайлович, преподавал школьникам физику и химию, мама, Татьяна Леонидовна, – географию и историю. У Тани был брат Гелий, старше её на четыре года, в одном доме с ними жила и бабушка тоже Татьяна.
Татьяна Валерьевна вспоминает, что в самом начале войны все вокруг говорили, что к Новому году враг будет побеждён. Мама, поверила и закупилась в магазине консервами, так, чтобы хватило до конца декабря. Никто и не подозревал, что блокадное кольцо сковало Ленинград на 900 долгих дней. Голод оказался неминуем.
«Сегодня у бабиньки день рожденья, ей 79 лет, – описывает Таня праздничный день в январе 1942 года. – На завтрак кофе с молоком, суп с лапшой. Я подарила полторы печенины, 2 кусочка сахара, 1 фисташку. Мама-сахар, папа-картошку, а Геля ничего. В обед, суп с корешками и 3 половника манной каши. На ужин жирный суп с лапшой, бабинька дала всем: сухарик и четверть конфетки, ещё мама достала булку, и поэтому было по куску хлеба и по куску булки. Снег, тихо, не холодно».
Отец ослабел от голода ещё в ноябре 1941 года. До этого он работал на заводе «Красный выборжец», но сил преодолевать пешком десять километров до завода у него больше не осталось. В декабре мама нашла его на крыльце и сказала: «Больше не пущу».
Для семьи Григоровых особенным праздником был Татьянин день – именины маленькой Тани, мамы и бабушки. До сих пор Татьяна Валерьевна хранит последнюю записку от отца, которую он написал в праздник 25 января 1942 года. Через месяц папа умер. «Когда мама пришла с дежурства, она сразу пошла к папе. Целовала и ласкала его, он сделал попытку улыбнуться, но не смог, а из глаз покатились слезы», – написала в этот день Таня.
Тело отца пролежало в холодном рабочем кабинете весь март – так семья смогла получить его карточки на месяц. Ими и расплатились с извозчиком, который достал гроб и отвёз папу на кладбище.
Март и апрель 1942 года Таня и Геля провели в детском доме, где мама работала нянечкой. Дома еды не было совсем, а в детдоме детям обеспечивали скромный завтрак, обед и ужин, однажды даже в баню водили вместе с воспитанниками детдома. В мае учреждение эвакуировали, и мама забрала детей домой.
До брата Гели в семье был ещё один ребёнок, умер он во младенчестве. Геля воспользовался старыми документами, свидетельствующими о рождении мальчика, и, таким образом, устроился в совхоз в Каменке как шестнадцатилетний, хотя ему ещё было четырнадцать. Стал работать, приносил домой какие-то очистки и кости, которые можно было отваривать.
18 января 1943-го Татьяна Валерьевна помнит отчётливо: «Было темно-темно, не единого просвета – и вдруг январский гром, было слышно, что что-то должно произойти. И потом прошло объявление: прорвали блокаду. Начало пути к победе». Вскоре фронт ушёл далеко от освобождённого Ленинграда.
Осенью 1943 года скончалась бабушка. Извозчика в Озерках уже не было, и Таня с братом сами отвезли тело на тележке на кладбище…
Май 1945-го. В деревню, где жила семья Григоровых, приехал паренёк с импортным радио, по которому уже восьмого числа передавали, что мир подписан. Но советские приёмники молчали до следующей ночи. В доме Григоровых радио и вовсе не было, весть донесли соседи: «Я сижу на крыльце, солнышко греет. Вдруг бежит по улице моя одноклассница: «Ты что? Победа пришла! Нас всех отпустили со школы!»
После войны Татьяна Валерьевна закончила Институт киноинженеров, до пенсии работала на ленинградском заводе «Светлана», вырастила трёх сыновей. Дневники детства в осаждённом городе Татьяна Валерьевна хранила всю жизнь. После её воспоминания ожили на страницах советских газет и литературных альбомов. Проза и поэзия стали неотъемлемой частью жизни: Татьяна Валерьевна выпустила двенадцать сборников сочинений, в каждом из которых она возвращается к тем дням. И один из этих дней – Татьянин:
Нынче праздник,
Мать стелила скатерть
И тарелки ставила на стол.
И надела праздничное платье,
Настоящий довоенный шёлк.
Пусть вода насущная в графине,
И картофель сварен в кожуре –
Всё равно. Сегодня именины,
Так всегда бывало в январе.
Праздник был, но не обильным пищей,
Добрым настроением сердец,
Голосом гитары пусть чуть слышной,
Верой, что войне придет конец.
#ТатьянинДень #БлокадаЛенинграда #ВоспоминанияОВойне #ДневникиБлокады
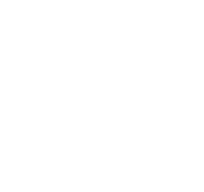
Отец мой был родом из Донбасса, носил фамилию Мацкевич. В 1937 году его репрессировали. В то время сажали многих, и, к сожалению, большинство сажали зря. Моя мама умерла от туберкул ёза, когда мне было 15 лет - в апреле 1940 года. Я тогда была девчонкой и не узнавала подробностей о смерти родителей. Меня взяла под опеку тётя, сестра мамы. Мама и тётя были из многодетной семьи, у их папы (моего дедушки) было восемь детей. У дедушки с бабушкой было четыре ребёнка, а когда бабушка умерла, сестра бабушки пожалела детей и вышла замуж за моего дедушку, и у них родилось ещё четверо детей. Это была большая, но очень дружная семья. Старшие четверо детей успели выучиться, получив хорошее образование, они потом работали и занимали высокие должности. С одним из них, дядей Васей, мы виделись во время войны. А вот младшие не получили такого хорошего образования из-за революции. Мама успела только школу закончить и сразу пошла работать счетоводом, а тётя закончила курсы и пошла работать библиотекарем.
Я же как-то с детства мечтала учиться. В Ленинграде сначала ходила в садик, потом в школу и собиралась пойти учиться в спортивную школу. Я посещала много секций: танцевала, пела, занималась художественным словом. Когда закончила 8 класс, я мечтала идти дальше по учебной деятельности. Я хорошо чертила, обожала математику и даже проверяла тетрадки вместе с учительницей. Хотела стать архитектором, тогда мне казалось, что я знаю как нужно… Но вмешалась война.
Я помню день, когда началась война, он остается в памяти на всю жизнь, его не забудешь. Мне было 15, я только-только закончила 8 класс. Знаете, я всегда с мальчишками дружила больше. И сидели мы в тот день, как обычно во дворе на скамейках. Двор такой большой, хороший был. Дети там играли днём, а вечером мужчины собирались за партией в домино. Было воскресенье, и вдруг слышим - кричат, что война началась! Первые эмоции были смешанными, мы, как герои, решили, что пойдём воевать. Книжек начитались о героях Гражданской войны и надумали себе. Но к вечеру до нас дошло, что это не шутка, а явь. Мы сразу будто отрезвели. Первым делом занавесили все окна, а потом ходили и проверяли хорошо ли у других они занавешены. Мы старались помочь старшим и делали всё, о чём они просили. Когда начались бомбёжки, мы с ребятами сбрасывали «зажигалки» с крыш. Я тогда жила на углу Герцена и Гороховой, Герцена 48.
До всех блокадных ужасов мы любили гулять в Александровском саду, бегали в Исаакиевском соборе, играли в прятки. Но с приходом войны всё изменилось, и нашим «единственным развлечением» стали выезды на огороды, для сбора продовольствия. Приезжали грузовые машины, забирали нас на 2-3 дня и увозили под Петергоф. Там ребята собирали овощи. Один раз мне нестерпимо захотелось домой. Я сказала девочкам, что хочу уехать, а они стали меня отговаривать - действительно наутро за нами должна была приехать машина, чтоб отвезти обратно в город. Но я не хотела ждать и всё-таки уехала на попутных машинах в Ленинград. А на следующий день мне сообщили, что в тот сарай, где мы оставались в Петергофе, попала бомба. И все девочки погибли. Это было чудо и мне повезло - меня ангел-хранитель уберёг. А когда заняли и Петергоф, нас начали возить рыть окопы возле больницы Фореля.
9 ноября мне исполнилось 16 лет, и знакомые помогли устроиться на работу. Работала я в маленьких домиках на берегу реки, за Лаврой, там находилась артель пластмасс, выпускающая фонарики. Мы там очищали облои (неровная поверхность) у фонариков. Чтобы добраться до работы, я садилась на трамвай № 7 и ехала до Александро-Невской лавры. Была зима, я голодала, и силы медленно уходили. Однажды в трамвае я почувствовала слабость и, чуть не упав, схватилась за поручень, а меня сзади начали подталкивать со словами «У, старая бабка!» А бабке-то было 16 лет!
Потом трамвай перестал ходить, а директор артели ушел на фронт, и мы стали жить в домиках, где и работали. Там же и за водой, на Неву, ходили. На реке вырубалась прорубь, и люди опускали туда чайники, ведра, кастрюли. С каждым днём всё меньше давали продуктов по карточкам. Город осаждён, кругом голод и нет еды - вот мы и отощали. И однажды, на выходе из комнаты я споткнулась о порог и потеряла сознание. Меня на саночках люди отвезли в детскую больницу, напротив Московского вокзала. Туда привозили дистрофиков с производства, их там подкармливали и подлечивали на протяжении 2-х недель. Меня же брать не хотели в больницу, сказали, что я всё равно умру. Но одной женщине-доктору я напомнила её дочку, которую эвакуировали, и она меня пожалела. Она забрала меня, устроила в больницу и положила в коридоре. Я месяца 3 пролежала в больнице, а весной мне пришлось заново учиться ходить. В то время я на четвереньках подползала к окну и смотрела на детей, которые играли во дворе. У них столько сил было, я удивлялась откуда они у них. Но и у меня была сила воли и желание жить. Я выкарабкалась. Потом сразу вернулась на работу, но там уже не делали фонарики, а делали спички. Я прошла все этапы от мастерицы спичек до упаковщицы. Сам директор, видя мою старательность, спросил, кем я хочу быть. Я хотела стать упаковщицей, и мне позволили упаковывать спички в бумагу. За время работы у меня так рука набилась, что я могла, не глядя, брать нужное количество спичек и их заворачивать.
Все продолжалось до 1943 года. Потом немцы начали нагонять и мужчин отправляли не передовую, а на их места ставили женщин. Мне тогда не было еще 18 лет, но я пошла в военкомат на Невском и попросилась в армию. Я такая худая была, что меня не хотели брать, но я упросила. Начала служить в 351-ом зенитно-артиллерийском полку. Забавный случай произошёл тогда - нам выдали форму, и начальник стал командовать поднимать ноги при марше выше и выше. Я ноги поднимаю, а сапоги-то на месте остаются - форму же нам сначала мужскую дали и сапоги, ну совсем не моего размера были! Правда, потом нам сшили женскую форму, под размер. Но такие моменты мне часто вспоминаются, я человек с юмором, даже тогда оставалась такой.
В полку я вступила в комсомол и стала комсоргом роты. Жили мы тогда в землянках. Я считалась грамотная, и моя задача была проводить беседы с ребятами и читать им газеты. Я находилась в прожекторном батальоне, а тогда было несколько дивизионов, в каждом из которых по две машины. На одной машине - звукоулавливатель, он ловил сигналы самолёта врага, а на другом - световой прожектор, который ослеплял врага и по нему можно было ударить. В каждом дивизионе было по нескольку таких точек. Моя задача была искать где обрыв проводов, соединять их и восстанавливать связь, поэтому я бегала от одной точки до другой, а там был лес и по два километра между точками. Таких дивизионов по городу было много (потом нас объединили в 72-ой полк). Когда я ходила от точки к точке, у меня с собой всегда был карабин. И вот, когда объявили о снятии блокады, я вместе со всеми на радостях и начала стрелять. Так хорошо было в ту минуту!
После снятия блокады женщин начали демобилизовывать. Все девчонки радовались, что домой едут, они-то все из разных сёл и городов были. А я как-то загрустила, вернуться-то мне по сути и не к кому было, да и квартира моя была вся разобрана, окна выбиты. Тётя же моя эвакуировалась, когда Дорогу жизни открыли в 1941 году, а я не уехала. Я Ленинград любила, как бы я город свой бросила? Так уж меня воспитали.
В итоге я вернулась домой, а там ни дров, ничего не было. Но мне помогла мама одной из моих школьных подруг добыть дров. Потом постепенно карточки вернулись, и с каждым годом всё больше и больше продуктов начали выдавать.
После войны вернулась тётя и тоже стала работать. Карточек тогда на всех не хватало. Я получала рабочую карточку, а она, хоть и не пошла библиотекарем работать, а пошла работать в охрану, стала тоже карточку получать рабочую.
После моей демобилизации, в июле 1943 года, я решила, что хочу учиться и пошла в первое же открытое учебное заведение от «Красной зари». Училась в филиале электромеханического техникума, на Васильевском острове. Я тогда работала в ОТК, на телефонном заводе. График был очень плотный, с утра я работала, потом ехала на учёбу и только после всего возвращалась домой. В техникуме я отучилась год. Потом в 1949 году я встретила будущего мужа, Чихачёва Николая Александровича, и в 1950 году родила Галю, дочку. Потом муж и его друзья помогли мне восстановиться на учёбу, и я отучилась. С телефонного мы потом ушли, и стали работать на заводе «Энергия». Кем я ни работала только: сборщицей — собирала блоки, монтажницей — проводила и припаивала провода по схеме, настройщицей аппаратуры. От завода нам выделили комнату в 20 квадратных метров, на Петроградской стороне. Хороший завод был, нам и путёвки давали, и земельные участки даже выделяли. Муж любил рыбачить, а участок выделяли по дороге в Сосновый бор, там залив рядом, вот о чём он и мечтал. Но участок мы не взяли, дочка маленькая была, да и зарабатывали мы не очень много. Однако, спустя 6 лет мы всё-таки получили участок. А потом завод объединили с институтом «Вектор», руководство сменилось, и оно не очень нам нравилось. Там я проработала 30 лет и ушла на пенсию.
#ЛюдмилаЧихачева #БлокадаЛенинграда #ЖизньВСложныеВремена #ВосстановлениеПослеБлокады #ЖенщиныНаФронте #ИсторияВыживания #СилаДуха #СемейныеЦенности #ПамятьОВойне
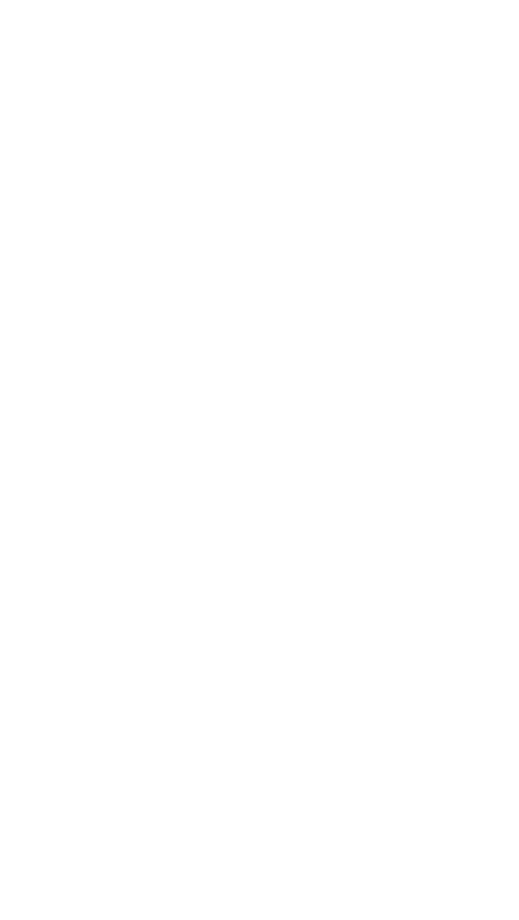
Астра Григорьевна родилась в 1929 году. Её отец – Григорий Александрович Орлов, сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии, – умер, когда дочери было два года. Воспитанием девочки занималась в основном бабушка – Мария Михайловна Швайкина, с которой Астра проводила всё время, даже не ходила в детский сад – настолько не хотела расставаться с любимой бабушкой. Мария Михайловна скончалась перед самым началом войны, оставив Астру, её маму и Клаву, мамину сестру переживать тяжёлые времена.
Весть о начале войны застала семью Орловых за завтраком. Радио в это июньское утро почему-то долго не работало, издавало странные звуки. И вдруг – на волне отчётливо зазвучало объявление: «Сегодня, в 4 часа утра, ... без объявления войны, германские войска напали…» Астра, мама и Клава застыли в недоумении.
Мама Астры – Антонина Ивановна – работала на Ленинградском государственном танковом заводе имени К. Е. Ворошилова. С началом войны производство новых машин прекратилось, уже в июле–августе танки с фронта стали поступать на ремонт. Антонина Ивановна иногда оставалась ночевать на заводе.
Детское любопытство не утихает даже в страшное военное время. Когда фашистская авиация начала решетить город зажигательными бомбами, подростки вступили в дежурные отряды, следили за крышами и двором, чтобы вовремя тушить «зажигалки». Но когда в ход были пущены дальнобойные снаряды, страх опустошил улицы и дворы. Когда летели самолёты, люди на земле успевали сориентироваться и найти убежище. Дальнобойные же орудия до последнего момента держали город в мучительном ожидании, где же упадёт снаряд...
Однажды в первые месяцы блокады Астра встречала маму на заводской проходной после смены. После отправления трамвая в сторону их дома громкоговорители объявили бомбёжку. Пассажиров высадили, все побежали к ближайшим домам в поисках укрытия. Астра с мамой забежали в подъезд, в котором уже было не протолкнуться. В толпе кто-то поднял голову и произнёс: «Крыша-то в доме стеклянная...». Несколько человек вместе с Астрой и её мамой рванули на другую улицу, забежали под другую крышу – и в этот момент за спиной раздался грохот от разрыва бомбы. Снаряд попал в тот самый дом со стеклянной крышей, полностью разрушив подъезд, который они покинули считанные секунды назад.
В первые месяцы войны Аркадий Обрант, руководитель танцевального кружка в районе, где жила Астра, объявил набор в ансамбль. Взрослые девушки ездили с концертами на фронт, а мальчики и девочки помладше поднимали настроение раненым в городских госпиталях. Там подростков иногда угощали кашей или гороховым супом. Но длилось это недолго. Разрушительные бомбёжки вскоре остановили передвижение городского транспорта, и Астра с мамой переселились из своей квартиры в центре в комнату в Володарском районе, поближе к заводу. Клава к тому времени ушла на фронт. Посещать кружок Астра больше не могла – доехать не на чем, а дойти пешком нет сил.
Голод времён блокады поглотил все желания и мечты ленинградцев. До войны в доме Орловых был рояль, который в первые же голодные месяцы пришлось поменять на две буханки хлеба. Однажды мама принесла домой свиную шкуру, которую они с Астрой порезали на кусочки и обжаривали на буржуйке. «Запах стоял ужасный! Хорошо, мы с подружкой Нинкой соли набрали!» – вспоминает Астра Григорьевна. Кучу соли – грязную, рыжую – подруги нашли на земле у проходной маминого завода, промывали её дома и ели, придавая пище слабый вкус. В первую осень блокады Нинка откуда-то узнала о капустных листьях, которые остались на поле после сбора урожая в Шушарах. Девочки набили листьями мешки и отнесли домой, ели их варёными.
«Один раз на мою детскую карточку выдали банку сгущённого молока. Это единственное за всю войну, что было хорошего», – вспоминает Астра Григорьевна.
В декабре 1941-го Ленинград сковали сорокаградусные морозы. Водопровод уже не работал. Пока мама была на заводской смене, в обязанности Астры входило выкупить продукты по карточкам, обзавестись водой: растопить снег или сходить до реки. Однажды девочка поехала за водой на санках. Спустилась к проруби, набрала ведро и начала подниматься – но горка обледенела от пролитой на снег воды. Тщетно карабкающуюся Астру заметила с дороги женщина и помогла ей выбраться. «Она сама еле на ногах держалась, но мы с ней как-то выкарабкались. Она мне очень помогла, потому что вокруг уже никто ни на кого не обращал внимания». Воду девочка не расплескала, привезла домой.
Несмотря на холод, голод и страх, вера в победу советских войск горожан не покидала, как вспоминает Астра Григорьевна. Фашисты сбрасывали с самолётов листовки с рассказами о своих успехах и завоеваниях, а ещё пропуска для перехода на их сторону в качестве пленных. Ленинградцы собирали эти пропуска и отправляли их в буржуйки, чтобы хоть немного обогреть стылые квартиры – вслед за журналами, книгами, мебелью и всем, что можно было сжечь.
В 1943 году, после прорыва блокады, Астра Григорьевна с мамой были эвакуированы в Алтайский край для восстановления сил, но там они пробыли недолго. Новость о победе советских войск над врагом застала их уже в Ленинграде – все люди, знакомые и незнакомые, со слезами на глазах обнимали друг друга, радуясь началу мирной жизни без страха войны.
После возвращения в Ленинград мама Астры снова вернулась на танковый завод, а девушка закончила педагогический институт и пошла работать в школу, затем устроилась в Ленинградский метрополитен и потом в Морское торговое пароходство.
Последние двадцать лет Астра Григорьевна вместе с семьёй живёт в Италии, где каждый День Победы получает поздравления от российского и итальянского консульства. Еще несколько лет назад Астра Григорьевна регулярно приезжала на праздник в родной город на Неве. Ни прошедшие годы, ни жизнь в другой стране не вытеснили из памяти события военного, блокадного детства.
#Детиблокады #БлокадаЛенинграда #АстраОрлова
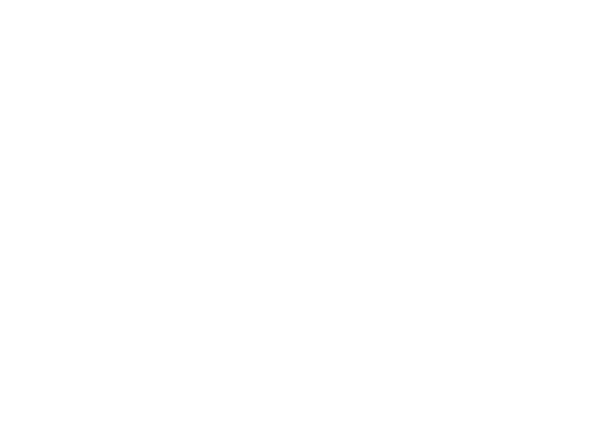
Борис Капитонович Феофанов награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды. На его кителе сияет 21 медаль, в том числе от правительства Чехословакии — «За храбрость».
Борис Капитонович Феофанов родился 28 февраля 1923 года в Петрограде. В годы блокады, а также в рядах Ленинградской армии народного ополчения погибли многие его родные и близкие люди. Дом на углу улиц Пестеля и Моховой, где на протяжении 150 лет жила его семья, был разрушен.
В феврале 1942 года 18-летний лейтенант Феофанов прибыл на Юго-Западный фронт и вскоре вступил в командование артиллерийской батареей. В 1942 году участвовал в боях в районе города Старый Оскол, под Воронежем, на Дону. Летом 1943 года командовал батареей на Курской дуге. Дважды побывал в окружении. Осенью 1943 года получил пулевое ранение в голову. Но, несмотря на серьёзные ранения, вернулся на фронт и участвовал в Сандомирской операции, дошёл до Берлина и Праги.
Когда началась война…
«Я не мог похвастаться крепким здоровьем с самых ранних лет. У меня был целый букет различных заболеваний, начиная от родовой травмы и заканчивая ревматизмом коленных суставов. Но я с 13 лет мечтал стать кадровым военным. В 1939 году, перед окончанием 8-го класса, в нашу школу пришёл капитан и рассказал, что в Ленинграде можно получить среднее образование в одной из специализированных артиллерийских школ. Весь облик капитана, в том числе медаль «XX лет РККА» на гимнастёрке, вызывал у большинства из нас восторг и желание быть похожим на него. Я, конечно, поспешил поступить в спецшколу, аналог нынешних кадетских корпусов. Так 9-й и 10-й классы я учился в 8-й Специальной артиллерийской школе.
Последний школьный экзамен я сдал 14 июня 1941 года. И уже 17 июня добровольно прибыл в Одессу с целью поступить в Одесское артиллерийское училище, поскольку на тот момент оно считалось одним из лучших. Мандатную комиссию я прошёл, а медицинская была назначена на 23 июня. 99 процентов, что меня бы не приняли в училище по состоянию здоровья, но 22 июня началась война. Медицинскую комиссию отменили, и я поступил в училище».
Юго-Западный фронт
«Я окончил училище 6 февраля 1942 года и был направлен на Юго-Западный фронт. 21 февраля, всего за неделю до своего 19-летия, в звании лейтенанта прибыл в 602-й пушечный артиллерийский полк, который в дальнейшем стал 76-м гвардейским, а с 1944 года получил наименование 40-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада.
15 июня 1942 года я принял на фронте первое подразделение, но не как артиллерист, а как связист. Мне пришлось заменить убитого командира взвода связи полка. Я ещё толком даже не познакомился со всеми, ведь связисты разбросаны на большой площади, как под городом Старый Оскол попал в окружение. 28 июня противник двумя группировками начал наступление, и 2 июля части левого фланга 40-й армии, в том числе наш, 602-й пушечный артполк, оказались в окружении. Мне пришлось самостоятельно выводить с боем своё подразделение из окружения.
После этого мне доверили командование артиллерийской батареей и так до конца войны я и прокомандовал батареей 152-миллиметровых гаубиц-пушек. В окружении мне пришлось побывать дважды — второй раз в конце января 1944 года».
На войне как на войне
«Говорят: на войне как на войне. А что это значит? Всё очень просто. Ты убьёшь противника или он тебя. Но мы не особо боялись смерти. На войне больше всего гложут тебя две вещи. Первая — неизвестность судьбы твоей семьи. Я долгое время не знал, что мой дом разрушен, и где находятся мои близкие, живы ли они. Но я стал лейтенантом в 18 лет , поэтому у меня не было жены и детей. А женатые люди постоянно боялись не только за своих родителей и других родственников, но в особенности за жену и детей. Переживали, что если их подстрелят, то дети будут сиротами, а если искалечат, то они станут обузой для своей семьи.
Второй главной трудностью на войне я бы назвал чудовищные физические перегрузки. Бойцы выкладывались просто на 1000 процентов, как говорится, на износ. Суровый быт и изнурительные нагрузки помогало преодолеть так называемое фронтовое братство – солидарность окружающих людей».
Кто будет получать мои письма?
«22 сентября 1943 года мы захватили плацдарм на правом берегу Днепра в 70 км южнее Киева. В ночь на 23 сентября я первым от полка прибыл на этот плацдарм, но из-за отсутствия связи с огневой позицией вынужден был вернуться. Утром с разведчиком и радистом вновь прибыл на плацдарм. Днём 26 сентября я корректировал огонь батареи, чуть-чуть приподнялся, чтобы посмотреть в бинокль, и получил пулевое ранение в голову. Через долю секунды после ранения я крикнул: «Кто будет получать мои письма?» — ведь всю войну я переписывался со своей будущей женой Тамарой, с которой мы поженились в 1945 году. А затем на некоторое время потерял сознание.
Командир полка, узнав о моём ранении, приказал командиру соседней батареи доставить меня на левый берег Днепра. Когда стемнело, комендант переправы предоставил лодку, на которую погрузили меня и радиста. Остальные связисты и разведчики батареи настаивали, чтобы их переправили на плоту одновременно с лодкой, где был я, но на тот плот погрузили только раненых из другой части. И когда мы были на середине Днепра, плот напоролся на мину... Но мои связисты и разведчики остались живы.
Мне не нужна была серьёзная операция: пуля прошла навылет, осколки черепа не попали внутрь. Но меня всё равно должны были направить в медсанбат или в госпиталь. Я уговорил, чтобы меня никуда из полка не отправляли, и мне пошли навстречу — меня лечил полковой врач. Уже в конце октября я вернулся на огневую позицию и это было моё единственное ранение за всю войну».
Первая награда
«Первой моей наградой стал Орден Красной Звезды. Мне его вручили как раз после ранения за удержание плацдарма на Днепре. Знаете, как вручали награды на фронте? Вызывает меня на наблюдательный пункт командир полка. Когда прибываю, он ставит два гранёных стакана, наливает в них спирт, бросает звёздочку в один из стаканов и говорит мне: «Пей!». Я выпил. Он прикрутил мне награду, а затем командует: «Теперь, Феофанов, на левый берег и в колонну полка под Киев». Я выскочил от него словно пробка, переправился на левый берег Днепра, стал собирать батарею с огневой позиции в колонну, и поехали под Киев.
Запомнилось, как мне вручали и орден Отечественной войны 2-й степени. Я находился на своём командно-наблюдательном пункте. Мне, ничего не объясняя, приказывают срочно явиться на командно-наблюдательный пункт командира полка. А от него до меня порядка 1,5–2 километров. На улице же дождь, обстрел. Я, где по-пластунски, где перебежками, в общем, весь в грязи прибываю к командиру полка. Он берёт маленькую беленькую коробочку и говорит мне: «На! А теперь бегом на свой наблюдательный пункт!» И я отправился обратно тем же маршрутом».
Победа со слезами на глазах
«Весть о том, что закончилась война, меня застала в Праге, во время Пражской наступательной операции. Всего за 10 дней до этого долгожданного события, 29 апреля убили моего лучшего друга Петра Титовича Нестеренко из Курска. Я всю войну с ним прошёл, он служил артиллерийским техником дивизиона. Под впечатлением этой потери 9 мая 1945 года для меня стал траурным днем. Война закончилась, а Петьки нет.
Я не люблю, когда меня представляют как какого-то героя. Я – самый обыкновенный участник войны, а нас таких было 32 миллиона».
В послевоенное время Борис Капитонович Феофанов продолжил военную службу на командных и штабных должностях в артиллерии. В 1960-х годах он участвовал в формировании и постановке на боевое дежурство Первой дивизии Ракетных войск стратегического назначения, получившей на вооружение межконтинентальные ракеты. В 1968 году по состоянию здоровья был переведён на преподавательскую работу в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова. Демобилизован по болезни в 1975 году. Но вплоть до мая 2001 года продолжал работать на промышленных предприятиях Ленинграда — Санкт-Петербурга.
#ГероиВОВ #ОбыкновенныйГерой #БорисФеофанов

Несмотря на свой почтенный возраст, Валентин Анисимович очень бодрый, жизнерадостный человек.
Войну он встретил на своей малой родине – в Лиманском районе Краснодарского края. Ему было всего 15 лет.
Валентин Анисимович вспоминает: народ не сразу понял, в чём дело. Однако уже через сутки все проявили готовность встать на защиту государства. Если до этого в стране был период разобщённости, то теперь у людей появился энтузиазм. Все стали объединены одной идеей: сделать всё возможное, чтобы приблизить Победу!
Эта идея захватила и Валю. Он вступил в добровольческий отряд. С ноября 1941 года в прифронтовых районах создавались истребительные батальоны для охраны важных объектов связи, складов и мостов. Эти батальоны состояли из ответственных работников, руководящего состава районных предприятий и комсомольского актива. Валентин Анисимович попал как раз в такой комсомольский актив, а в 16 лет был зачислен в истребительный батальон.
Как раз в это время под Ростовом была тяжёлая ситуация: город переходил «из рук в руки». Валя был определён в одну из воинских частей, сформированных на Кубани в течение пяти месяцев 1942 года по решению Государственного комитета (ГК) обороны для участия в боевых действиях. В то время танковых и механизированных частей у Красной армии было недостаточно, и ГК обороны принял решение сформировать подвижные части из кавалерийских частей. Их состав был из непризывного контингента: в основном – седоусые казаки за 50-60 лет. Вместе с ними Валентин участвовал в боевых действиях на Северокавказском фронте. К сожалению, в 1942 году части вынуждены были оставить территорию из-за недостаточных сил. Они, как могли, защищали Майкоп и Грозный, где были запасы нефти, в которых так нуждалась немецкая армия. С грустью они с сослуживцами покидали родной край.
В январе 1943 года войска Северокавказского фронта перешли в наступление. В течение месяца кавалерийские части прошли ногайские и прикаспийские степи в тяжёлых погодных условиях – пурга, морозы и к 13 января вышли к Ростову, где помогли войскам, которые вели наступательные действия, освободить город от фашистских захватчиков. Там Валентин Анисимович был контужен.
После ранения, будучи в запасном полку, он узнал , что стали набирать молодёжь в училища, и тоже захотел. Его направили в танковое, по окончании которого в январе 1945 года он был отправлен во вновь сформированное танковое училище в Никополе для подготовки кадров. Двадцатилетнему младшему лейтенанту Ткаченко курсанты казались стариками. Им было по 40 лет, они приезжали с фронта постигать военную науку.
В Никополе базировалась танковая бригада, которая брала Крым и Севастополь. По воспоминаниям Валентина Анисимовича, когда война закончилась, наступило всеобщее ликование: в казармах брали винтовки, стреляли в воздух; на площади был радостный митинг. Люди просто не верили, что остались живы.
В 1960-х подводили итоги и считали, сколько человек погибло на войне. Сначала говорили про 15 миллионов, потом стали уточнять – только безвозвратных потерь в армии составили 13 миллионов человек. В подсчётах помогли отряды Красных следопытов (по решению Центрального комитета в школах, находившихся на территории боевых действий, создавались отряды, которые устанавливали имена погибших в летний период; у Валентина Анисимовича есть переписка с представителями одного из таких отрядов). В 70-х годах после более тщательных подсчетов оказалось, что потери составили около 27 миллионов человек.
После Великой Отечественной войны Валентин Анисимович решил связать свою жизнь с военным делом, посвятил ему более 37 лет. Из них три года служил на Чукотке, потом был переведён в Ленинград. Его сын закончил Артиллерийскую академию, работал научным сотрудником. Правнук после восьмого класса поступил в Суворовское училище. Окончив, хорошо сдал экзамены и поступил в институт МВД. Валентин Анисимович переживает за правнука: тот должен стать оперативным работником, однако одновременно радуется его достижениям и безмерно им гордится.
#ГероиВОВ #ДоброволецВОВ #ВалентинТкаченко
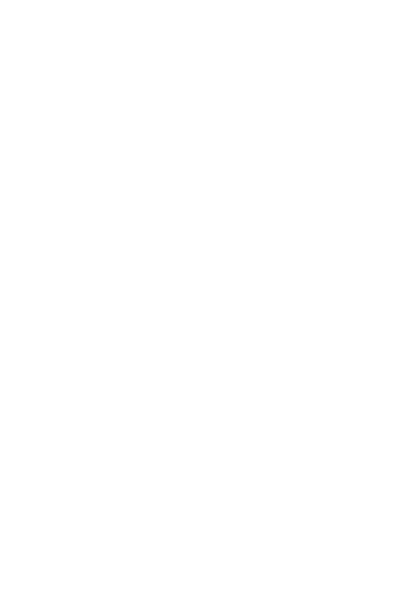
Сейчас Валентину Прокофьевичу уже 104 года – сбылись заветы деревенской знахарки.
В 1937 году Валентин пошёл на срочную службу и попал в учебное подразделение танковой части. Второй год службы он провёл уже в звании помощника командира взвода, а после срока поступил в военно-политическое училище в Смоленске, которое окончил перед самым началом войны.
Первые месяцы Великой Отечественной Валентин Росляков провёл вдалеке от западного фронта: сразу после училища был направлен в Закавказский военный округ, в танковую дивизию, стоявшую в Армении. В то время на территории Ирана появились немецкие войска, что всерьёз угрожало появлением театра военных действий на юге. Для предотвращения этого сценария советское и британское командование ввело войска в Иран. «Дивизия у нас была большая, в 500 танков, – вспоминает Валентин Прокофьевич. – Мы быстро справились, обезвредили всех немцев, нас вернули в Армению и начали побатальонно отправлять на фронт».
Пока части с юга перемещались на основную линию фронта, немцы уже взяли Киев, затем и Ростов. Рота, в которой Валентин Прокофьевич служил замполитом, была разбросана побатальонно, в её распоряжении осталось семь танков из шестнадцати. Полегли все командиры, из офицерского состава в роте остался только замполит Росляков, принявший командование перед новым боем за Ростов.
«Подошла свежая армия, подбросили ещё танков, взяли мы Ростов. Но тут налетели на подходящий резерв фашистов – большую колонну в несколько десятков танков. У немцев машины тяжелее наших, мы против них – живопырки… Налетела моя рота на эту колонну, нас расчихвостили, и танк мой загорелся». Из-за сильного возгорания один из товарищей погиб, пулемётчик и механик получили ожоги и ранения, замполит Росляков был ранен в ногу.
Из горящего танка выйти через люк было невозможно, но в днище был аварийный люк. Трое солдат выбрались из танка и легли около горящей машины. Мимо с грохотом проезжали фашистские танки и бронетранспортеры – не заметили лежащих красноармейцев. Несколько минут солдаты провели без движения, но нужно было уходить – танк мог взорваться в любой момент. Двинулись ползком, метров через двести увидели скирды соломы, за которым можно было дождаться темноты. Раны уже давали о себе знать…
Вдруг у скирда солдаты заметили лошадь, запряжённую в телегу, а вокруг никого. Крикнули – с высоты скирда ответил робкий детский голос. Два паренька приехали из ближайшей деревни за соломой, а в это время разгорелся бой. Забравшись на скирд, они в оцепенении наблюдали за происходящим на поле.
Мальчишки доставили солдат в деревню, где разместился санитарный взвод. Раны обработали, ногу замполита Рослякова «поставили на лубок» – зафиксировали тонкими дощечками, чтобы предотвратить смещение сломанной кости. Следующие полгода Валентин Прокофьевич провёл в самом глубоком тылу – в Ашхабаде.
«Страшно ли на войне? Так не могу сказать, но и то, что ничего не боялись, тоже неправда, – вспоминает ветеран. – Умирать не хотелось, хотелось отомстить врагу. Болеешь за судьбу своей страны, за людей своих, и поэтому не думаешь о себе, жив будешь или не жив, когда идёшь в атаку».
У Валерия Прокофьевича множество наград: медали – «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – и ордена – Красного Знамени, Красной Звезды и Орден Отечественной войны I степени. «Красное Знамя» герой войны получил за операцию, проведённую уже под конец войны. После взятия Вильнюса войскам была дана передышка, чтобы восстановить технические и боевые силы и начать операции по окружению и уничтожению врага в Прибалтике. Внезапно разведка доложила, что немцы выводят технику из района Риги, чтобы сосредоточиться в Восточной Пруссии. Командиры решили расстроить планы фашистов.
Валентин Прокофьевич был заместителем бригадира танкового батальона, в его распоряжении было всего четыре танка. Командир бригады приказал ему выйти в местечко Колнуи, которое лежало на пути следования немцев, устроить засаду и закрыть выход из леса.
Идти пришлось ночью, в обход всех деревень, чтобы не наткнуться на врага. На карте Колнуи числилась деревней, но на месте солдаты увидели одни развалины, за ними и успели укрыться. Часов в девять появились мотоциклисты-разведчики, затем – танки. «Задача была сразу, с первого танка перекрыть дорогу, а я решил порезвиться, – рассказывает Валентин Прокофьевич. – Думаю, место хорошее, из этого леса по дороге больше двух танков сразу выйти не могут, а с двумя моим четырём справиться было легко. И вот я начал щипать: как только выскочит из леса новый, залпом раз – и два. В результате за час боевых действий 12 танков оказались на опушке, а остальные повернули в бегство. За эту операцию я и получил орден Красного Знамени».
Самая любимая медаль Валентина Прокофьевича – за взятие первого немецкого города Кёнигсберга и освобождение Восточной Пруссии. «Мы тогда увеличили просторы нашей Родины на десятки тысяч километров, и называться они стали Калининград и Калининградская область, и поныне это наш форпост на западной границе. Вот эта медаль мне особо дорога, даже больше, чем ордена».
2 мая 1945 года командир танкового батальона Валентин Росляков вёл бой уже на территории Германии. В радиоприёмнике раздался простой приказ, которого солдат ждал четыре года: «Я, командир 31-я танковой бригады, приказываю прекратить боевые действия. Война окончена, Германия капитулировала. Разрешаю дать последний залп по немецкой территории». На последний залп батальон не поскупился, выпалив больше ненужных снаряды.
«Есть у нашего народа особенность, – рассуждает Валентин Прокофьевич, – мы долго раскачиваемся, но, коли уже раскачались, рассердились, то пощады врагу не видать. Все войны против России заканчивались нашей победой. Молодому человеку и сегодня нужно получить военное образование, чтобы всегда быть готовым встать на защиту Родины. А для этого нужно быть сильным, крепким, здоровым. Я в жизни ни одной папироски во рту не держал».
#ГеройТанкист #ГероиВОВ #ВалентинРосляков
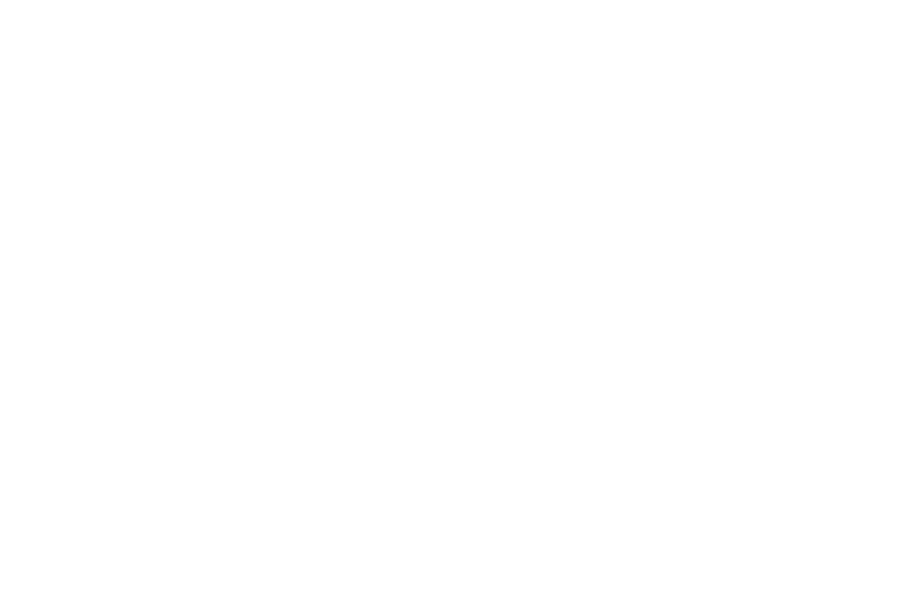
В июне 1941 года Вера с мамой поехали в Петрозаводск — посмотреть квартиру, которую дали отцу. Он был военным. Как только объявили о начале войны, отец отправил их обратно в Ленинград. Вера пошла в восьмой класс, затем школу переоборудовали в госпиталь, а детей перевели в другое здание. Учиться приходилось в подвале при керосиновых горелках и свечах.
Голос Веры Николаевны дрожит, когда она вспоминает путь в школу: «Часто идёшь по этому Лесному проспекту… где-то кто-то уже лежит, кого-то там везут. Сами-то еле передвигались».
Закончить учебный год не удалось – помешала блокада Ленинграда. Вера видела, как горели Бадаевские склады и как высоко поднимался дым. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь — все пять месяцев семья жила рядом с Финляндским вокзалом, на улице Комсомола, в дореволюционном доме.
Мать Веры, Александра Ивановна, не работала – на момент начала блокады она уже серьёзно болела и не могла прятаться в бомбоубежище. Дети ставили огромное кресло между арочными окнами, и мама пережидала бомбёжку там. Помогали толстые стены. Вера Николаевна признаётся, что она не совсем осознавала опасность, поэтому просто выбегала на улицу. Однако в военных записях есть отметка о том, что в бомбоубежище они всё-таки прятались. Как было на самом деле, понять сложно – прошло больше семидесяти лет.
Однажды бомба попала в ту часть дома, где был продуктовый магазин, в который заходили со двора. Позже дети помогали вытаскивать оттуда ящики и пакеты с продуктами. «Никто ничего не взял, никто ничего не съел. Мы никогда этого не забудем», — твёрдо заявляет Вера Николаевна, и в голосе отчётливо слышится гордость за этот поступок, за то, что они остались настоящими патриотами даже в трудное время.
Продовольственные карточки отоваривали в пекарне напротив. Осенью мама уезжала в пригород и обменивала кольца с часами на морковку с картошкой – ведро или полведра.
Когда гудела сирена, дети вместе со взрослыми следили, чтобы в парадную не заходили чужие люди. Помогали спускаться в бомбоубежище, которое находилось в доме, заклеивали в других квартирах окна крест-накрест – так они становились прочнее. Мама топила печку, все садились и вязали носки, шарфы, которые отправляли на фронт. Вера жила на одной лестничной площадке с подругой Галей. Вместе они дежурили на крышах – тушили зажигалки: «Но мы не ныли. Не было такого»
Отец Николай Иванович – полковник, работал в НКВД, был начальником «Смерша» (Главное управление военной контрразведки НКО), служил на Карельском фронте. Награждён Орденом Красного Знамени и Орденом Ленина. Вера с младшим братом Владимиром писали отцу прощальные письма о жизни в блокадном городе, думая, что им осталось недолго. Николай Иванович смог прилететь: привёз с собой целый рюкзак разных консервов, в том числе и для других семей в подъезде. До этого величайшим лакомством были картофельные котлеты из шелухи, выданные в школе.
У Слякоткиных в квартире сразу собралось много детей, но отец не разрешил им много есть: опасался их смерти из-за переедания после длительного голодания, ведь долгое время они получали только по 125 грамм хлеба в день. Помнит, что мама часто отказывалась от своей порции, говоря: «Я сыта».
В январе 1942 года отец, наконец, вывез их в Беломорск на одном самолёте с артистами. Вера вспоминает, что вещи с собой брать было нельзя, и почти всю одежду она надела на себя.
После госпиталя было два пути: идти в тыл или оставаться в городе. Вера работала вольнонаёмной в Народном комиссариате, была военнообязанной. Дослужилась от солдата до старшины. В военных действиях участия не принимала – служила в штабе пограничных войск Карельского и Ленинградского фронтов (1942-1945 гг). В отделе партизанского движения составляла списки людей – кто служил, а кто нет.
Вдруг Вера Николаевна прерывается и говорит: «У меня есть гордость, конечно». Рассказывает про мужа – Васильева Николая Викторовича, получившего ранение на фронте, про дочерей и внуков, которые стали незаменимой поддержкой. Вдаётся в подробности своей послевоенной жизни, словно убеждая: счастья всё равно было больше.
#БлокадаЛенинграда #Ленинградцы #ВераСлякоткина
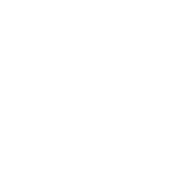
Началась блокада, но ребята продолжали учиться и помогать осаждённому городу. Лишь в феврале 1942 года всех учеников эвакуировали.
Дальше жизнь у Олега была тыловая: юноша работал на речном флоте, они вылавливали из реки брёвна и тащили их на берег. Однажды Олег Георгиевич опоздал на работу всего на 10 минут, после чего его отправили в армию, где он попал в Монголию.
И вот война закончилась, но только не для Олега – его направили воевать в Японию. Домой он вернулся только в 1947 году…
Олег Георгиевич очень весёлый, постоянно шутит. Он был рад пообщаться и рассказать свою историю!
Когда началась война, я жил в общежитии на Двинской улице, рядом с портом. В тот день у нас был запланирован поход под парусами на Крестовский остров – мы же будущие моряки. Вот пришли мы на остров, а тут слухи пошли, мол, война началась. Паруса быстро собрали и вернулись на базу. Как только добрались до общежития, нас сразу же во дворе собрали и отправили рыть окопы и блиндажи. Ночью, как только мы легли спать, нас подняли и отправили на трамвае до Автово. Там мы стали копать уже большие траншеи. Потом нам привезли сухие пайки: кусок колбасы, кусок хлеба и чай. Так нас всё лето и гоняли туда-сюда копать траншеи, ведь мы, ремесленники, народ военнообязанный.
В первую ночь блокады была воздушная тревога, но нас не бомбили. Пока мы копали траншеи в Автово за Красным кладбищем, мы её слышали. Тогда ещё прожекторы засветили по небу. Я в ту ночь почувствовал тревогу.
Где-то 12-13 сентября бомбили Кировский район. Мы спустились в бомбоубежище: свет везде погас, паника, ориентировались только по шуму. Потом бомба упала и образовала дырку в стенке. Мы выбрались на улицу, а там ничего, всё сгорело. Однако наше трёхэтажное деревянное общежитие осталось целым.
Столовой больше не было, кухни и складов тоже. Сначала нас кормили в портовой столовой, потом нас гоняли на какое-то закрытое предприятие, затем – на фабрику «Кухня». Я там запомнил такое блюдо: рассыпчатая гречневая каша и ложечка шкварок – сало, обжаренное с луком. Ох, как же это было вкусно!
Началась блокада, но мы продолжали учиться, хоть и были обстрелы. Окна были заделаны фанерой, так как стекла были выбиты. Во время обстрелов иногда даже залетали осколки. Все помещения были рядом: мы там и учились, и питались, и одевались, и жили.
Тогда же мы ходили на разные практики: я работал на Канонерском заводе на буксире, кто-то был в портах, в местных и в других городах. Ещё нас гоняли в Кировский район, где мы разбирали деревянные дома, чтобы уменьшить пожары во время бомбёжек. Всё это мы покрывали специальными белилами, чтобы ничего не горело. Помню, как у нас упали две зажигательные бомбы, тогда один из наших схватил бомбу щипцами и сразу кинул её в бочку. Ему потом в награду часы дали.
Во время практики меня сняли с общего питания, поэтому у меня была карточка, по которой я получал хлеб. В ноябре на моём буксире кончилось топливо, а учёба начиналась только 1 декабря. Свои карточки я быстро проел, поэтому три дня голодал. Тогда ещё трамвай ходил, я к своей тётушке поехал, она мне три макаронины дала. Это был один из последних трамваев, кстати. Потом они уже не ходили.
В декабре мы все собрались с практик. Ребята, которые уехали в Мурманск и Саратов, конечно же, не приехали. Только зимой мы уже не учились. Зима была холодная. Жили в комнатах общежития группами, по 20 человек, отопления не было. Окна были выбиты из-за бомбёжек, мы их подушками и матрасами закрывали. Буржуйки топили всем, чем можно было: галоши жгли, матрасы жгли, мебель.
В училище нас кормили три раза в день: завтрак, обед и ужин. Первое и второе давали. Бывало то кочерыжки от капусты, то в баланде что-нибудь плавало, но иногда и ничего не было. В блокаду нам давали 250 граммов хлеба, как и рабочим: 75 на завтрак, 100 в обед и 75 граммов был ужин.
Бывало такое, что идёшь в столовую «Костяшка», вокруг обстрел, а на улице зима, январь месяц. И кто-то рядом вдруг падает, идти дальше не может. Ну, не потащишь же его, так и оставляли лежать. Да, и ходили мы только в столовую и обратно.
В блокаду ещё было выражение: «Чтоб тебя ремесленники съели!» В Ленинграде тогда было 82 ремесленных училища. Это ж сколько народу понаехало, а есть нечего было! Например, у нас в училище было 400 человек, а в других было гораздо больше. Набор был в 1940 году, тогда вышел приказ создать трудовые резервы.
Однажды поступила команда, чтобы мы взяли с собой всё, что можем из тёплого. Нас погрузили в машину и повезли на берег Ладоги. Там нас эвакуировали по Дороге Жизни.
Когда мы прибыли на переправу, мы очень долго стояли в очереди за бензином. Тогда два наших крепких парня взяли канистру у шофёра и получили бензин без машины. Помню, что, пока мы ехали, бомбёжек не было, но на дороге была вода. Видимо, от трения машин снег таял. Я сидел в кабине, опершись на стенку.
Эти два парня были местными, видимо, из хорошей семьи. Они не были истощёнными, наверное, в семье их подкармливали. Когда мы ехали в поезде, они где-то нашли паркет и топили буржуйку. А так как вагоны сами были телячьи, залезть на них самим было уже сложно, они нам помогали.
Пока ехали по Дороге Жизни, я сидел в кабине на полу, а парниша из нашей группы сел ко мне на колени. Он раньше полный ещё был. У меня отекли ноги, больно было, я ему всю дорогу кричал: «Я тебя сейчас зарежу! Слезай, паразит! У меня ноги отекли!» Приехали на место, а он мёртвый. Я даже потом статью в газете читал, наш шофёр написал про этот случай.
Когда мы переехали Ладогу, нас встретили и покормили. Дали овсяную кашу, плитку шоколада, кусок колбасы, хлеб. Ремесленники, которые эвакуировались раньше нас и окрепли, уже оклемались и отбирали у нас еду. А мы шинель расстегивали и всё за пазуху убирали.
Потом на эшелонах мы поехали в сторону Свердловска (ныне Екатеринбург). Всего нас было человек 200, но по дороге около половины умерло. Бывало, сидим в вагоне и греемся по очереди рядом с камельком. Один отошёл, сел греться другой. Вот некоторые у камелька так и умирали. А ты оттащишь тело, сядешь на его место и греешься. До Свердловска мы бы не доехали, поэтому дальше Ярославля нас не пустили.
В Ярославле нас приютила фирма СК-1, которая делала синтетический каучук, у них было что-то наподобие интерната. Там нас, волосатых и вшивых, постригли, сделали нам баню, помыли и полностью обработали – в общем, окультурили. Угостили нас чаем, кусочком хлеба, потом давали даже какао. Были случаи, когда кто-нибудь ел, объедался, и у него происходил разрыв внутренних органов, он так за столом и умирал.
Там же нас оставили лечиться. У меня ноги заклинило, я не мог ходить. Меня на руках несли в общежитие. Говорили, что витамина С не хватает. В общем, боль была страшная, ноги не повернуть.
После выписки я недолго поработал на Ярославской пристани. Был мотористом на катере. Через время нас направили в Камское устье, Татарское ССР – это была граница Верхне-Волжского речного пароходства. Там я уже работал на пароходах. Мы тащили баржи с пшеницей и другой провизией. Потом я работал на Каме. Месяц кончался, а мне надо было получать продуктовые карточки. Тогда я решил уволиться с этого парохода и пойти в отдел кадров в Камском устье. Меня определили в бригаду, которая ловила бесхозный лес, который по реке бежал сам по себе, ловила его, привязывала, а вечером буксир оттаскивал всё. На работу отправлялись мы на шлюпках. Бревно плывет, мы на шлюпках раз-раз, берём его. Снова бревно, потом опять – и так весь день! Но однажды я опоздал на шлюпку, всего минут на 10, но не поплыву же я за ней. Вот опоздал и всё, а почему, как и зачем – не помню уже. В советское время была жёсткая дисциплина. Получилось так, что я прогульщик. А прогульщикам полагалось 6 месяцев тюрьмы или трудовые работы. Меня, значит, за шкирку и к прокурору, а тот меня спрашивает: «Ну, что ты, под суд пойдешь или в армию?», я ему говорю, мол, в армию.
Через три дня меня забрали, мне ещё 17 лет не было. Это был ноябрь 1943 года. Привезли в районный центр, переночевали, а затем в эшелон и прямиком в Монголию. Монголия – довольно пустынная земля, зимы там холодные, а лето жаркое. В Монголии я служил пулемётчиком, воевал потом тоже пулемётчиком. Командиром нашей дивизии был полковник Баджалидзе.
В День Победы мы были на стрельбище, стреляли из пулемётов. У каждого программа, мишень. Вдруг кто-то говорит: «Победа!» Так народ все патроны направил в воздух от радости – такой салют был у нас. Разговоров было потом…
В русско-японскую войну я воевал, в основном, в Китае. В августе нас перебросили ближе к границе, как нам говорили, для отдыха. Жили мы в палатках, нам дали косы, чтобы мы косили траву – всё это было для отвода глаз, ведь мы были рядом с границей. Помню, что командир полка сказал нам: «Сынки, не подведите!» Так мы и вступили в войну. Пошли с боями. Нам прорвали дорогу войска с запада, которые были переброшены на восток на эшелонах из Германии.
Самое трудное – Хинганский перевал, где спуск вниз был километров семь. Мне за это потом благодарность Сталина дали. Нам обещали, что мы дойдём до моря, но не дошли. Сначала шли проверенные войска и танки. Получается, что мы шли за опытными фронтовиками, которые ещё с немцами воевали. В военных действиях я участвовал как пулемётчик. Закончилось всё быстро.
Помню, был один жестокий случай, когда расстреляли младшего лейтенанта за мародёрство. Построили весь полк буквой «П». Выкопали могилу. Командир полка зачитал приговор, пошёл сильный дождь, а командир давай быстрее читать, а потом: «Именем советской власти привести приговор в исполнение!» Сзади лейтенанта стояли два автоматчика и майор с маузером. Его очередью расстреляли, потом ещё два выстрела от майора. Врачи подбежали, проверили, что лейтенант умер. Жуткое было зрелище. А дело было так: этот младший лейтенант зашёл к китайцам, выстрелил два раза в потолок и потребовал спиртное. Может, если бы он тогда не выстрелил, то и его бы не расстреляли.
А в нашем полку командир построил нас и вывел чудака, который был обвешан тряпками с монастыря – мол, вот он, мародёр, стоит! Вынимает ножик, неужели зарежет… А он подходит к нему и погоны срезает – так и разжаловал в рядовые.
Было дело: однажды всех лошадей расстреляли. Стада из внутренней Монголии гнали с собой в Китай. А у лошадей оказалась какая-то болезнь, которой они могли заразить остальных в Китае. Тогда офицер расстрелял лошадей рядом с ущельем, а они туда попадали.
Пленные японцы строили в Находке причалы. Научились лопотать по-русски даже. Японцы всё говорили, что скоро домой. А мы им: «А достраивать кто будет?» От них следовал ответ, что американцы. Помню, мы жили на сопках, а пленные японцы внизу. Мы вставали в семь утра, а они в шесть. И мы везли на работы их с песнями, с русскими песнями.
После войны у нас забрали всё оружие и отдали его Красной Армии Китая, поэтому возвращались мы обратно пустые. Вернувшись на машинах в Монголию, нас расформировали: всех офицеров отправили в Россию, остался лишь рядовой состав и жёны офицеров. Начались грабежи и разбои. Всех жён изнасиловали. Мне пришлось дежурить в Особом Отделе, куда приходили женщины и жаловались. Один лишь офицер остался на всю эту компанию, но что он сделает? Оружия нет, ничего нет.
Домой я вернулся только в 1947 году, когда мне отпуск дали. Письма я писал регулярно. Сам первое письмо получил в 1943 году: сестра мне писала, что все живы, кроме отца и средней сестры. Ольга, сестра моя, была телеграфисткой. Народ видел, как немцы посадили её в эшелон, но никто не знает, куда её увезли. Младшая сестра Нина после войны училась в Эстонии. А старшая Анна уехала жить в Белоруссию. Она до сих пор жива, ей 96 лет.
Родители мои были в оккупации. Отец был расстрелян немцами. Ему было 65 лет. Мне сестра и мать потом рассказывали, что кто-то предал его, сказал, что он коммунист, поэтому и расстреляли. Когда я ещё в 1940 году уезжал, он мне сказал, что мы больше не увидимся.
В 1950 году я демобилизовался. В Ленинграде заочно окончил ЛАУ – Ленинградское Арктическое училище. Помню, хотел учиться со своими ребятами-солдатами, но они трое попали в одну группу, а я отдельно был, даже учиться перехотелось. Но окончил. Интересно всё-таки было!
Потом много работал электромехаником, примерно с 1952 года и до пенсии. Также много где был в командировках. Например, из Японии мы перегоняли судно в Ленинград. Ещё был на Диксоне, это северный морской путь. В Прибалтике (Латвия, Литва) мы строили причалы, корабли, базы подводных лодок. На военном флоте я был штурманским электриком, а на гражданском – электриком-механиком.
Кстати, получилось в моей жизни так, что я шесть раз проехал расстояние Москва-Владивосток, это 10 суток езды на поезде. Потом уже летал на самолёте.
Автор: Елизавета Капралова.
#История #ВоенныеВоспоминания #БлокадаЛенинграда #ГероиВойны
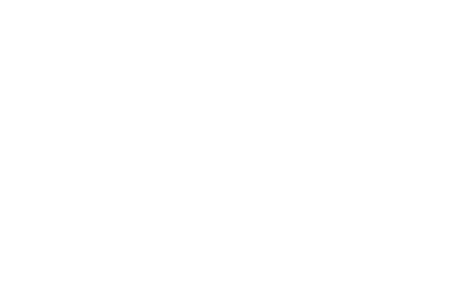
А война началась в 4 часа утра. Я в это время жила и работала в Кронштадте. В первый день мне было как раз восемнадцать. И, когда началась война, мы ещё, собственно, ничего не знали, но самолёт бомбил Кронштадт. Я работала в аптеке, и к нам в этот же вечер привели девушку и женщину. У женщины была вырвана ягодица, одна половинка, а как девушка была ранена, я сейчас уже и не помню… По-видимому, легко, потому что ушла сама и женщину увезли. В блокаду скорой помощи мы должны были как-нибудь помогать. Но, несмотря на то, что всякие санитарные курсы проходили и курсы первой помощи, мы все перепугались и спрятались. И с этой раненой женщиной возился наш начальник, а управляющая аптеки вызвала скорую помощь – и её увезли. После войны я эту женщину встретила в бане. Как я её узнала? По ягодице… Вырван кусок. Вот он – первый день моей войны. Всю войну я так и проработала в Кронштадте.
Я хочу рассказать историю. В самом начале войны муж мой будущий – а тогда я его, конечно, знать не знала, мы только в 1944 году поженились – был дежурным по противовоздушной обороне. И, когда в воздухе появился самолёт, он запросил у аэродрома, наши ли это вылетали, все сказали: «Нет!» Тогда он приказал сбить этот самолёт, зенитчики его и сбили. И моего будущего мужа тут же с дежурства сняли и арестовали, потому что война же не была объявлена. Вдруг в шесть утра бежит вестовой и кричит: «Товарищ… – а кто он был тогда: лейтенант или капитан, не берусь говорить. – Война!» Ну, его тут же выпустили, конечно, и наградили орденом Красной Звезды.
Бадаевские склады быстро сожгли, и фактически Ленинград остался без продовольствия, а у меня вся семья: мама, брат Борис, сестра Вера и её маленькая дочка Ирочка жили в Ленинграде во время войны, остальные эвакуировались. Поэтому я старалась всегда, если мне что-то там принесут, привезти им. Поскольку мы жили вдвоём с подружкой Мусей, я ей говорила: «Ты как хочешь, а я своё везу в Ленинград».
В Ленинград мы ездили через Ораниенбаум, но затем немцы уже совсем близко подошли и сообщения этого не стало. Хотя потом ещё паромы ходили. Помню, один раз мы едем, и начался обстрел… Слушайте, это так было страшно! А я с кавалером ехала, и он мне: «Успокойся! Успокойся!» В итоге, благополучно доехали.
Я ещё всегда брала отоварить карточки в Кронштадте, потому что там давали сливочное масло: полкилограмма на месяц, а в Ленинграде – маргарин. Единственное, что хлеб – сто двадцать пять грамм – это я и после смерти помнить буду. А ещё во время войны давали соевое молоко. В послевоенное время даже ходил анекдот. Мальчика спросили: «Что ты хочешь?» – «Я хочу, чтобы все соевые коровы сдохли!»
Помню, что через залив ходили пешком. И вот идёшь, и на льду люди валяются… Но никто не подходит, потому что все еле живые.
Один раз уже вхожу в Ленинград, как едет грузовая машина. Внутри - мертвецы, чем-то прикрытые, только ноги торчат. Босые почему-то… Обувь ведь была нужна живым. Я сейчас бы сразу умерла от этого всего. А тогда это воспринималось как-то по-другому.
Давали нам карточки, питались мы в столовой, потому что так выгодней было. Там и первое поешь, и второе. А подружка Муся, с которой мы жили вдвоём, тоже в аптеке работала. И, если я работаю в смену дневную, она берёт обед и для меня. Так вот один раз она приходит с вечерней смены, а я говорю: «Муська, сегодня суп был невкусный – какая-то одна вода». Она смеётся, отвечает: «Так это я вымыла посуду, – говорит, – да не вылила воду, мне лень было идти, да и сил не было, подумала, потом вынесу». Вот такой смешной случай.
Одну нашу подружку взяли на фронт - ну как же! Её на фронт забрали, а мы остались? Мы тоже побежали в военкомат – пошлите и нас на фронт! Пришли, а военком был хороший знакомый нашего управляющего аптекой. Во-первых, он нас отчитал как следует: «Вы что думаете, это как на танцульки сбегать?» И начальнику нашему позвонил: «Образумь своих!» Мы же молодые были – всем по восемнадцать лет. Помню, что он всегда называл нас «мои девки», но мы не считали это чем-то грубым. Так вот начальник нас вызвал, отчитал как следует, и у нас отбило охоту идти на фронт. Потом, когда мы всё более-менее осознали, то поняли, что лучше было бы пойти на курсы шофёров. Решили, что будем грузовики через залив водить. Хорошо, что меня сразу оттуда вышибли, видать, тоже начальник позвонил и сказал: «Гоните там моих девок!» Хотя одну из нас всё-таки взяли. Она позднее говорила: «Чёрт меня сунул на эти курсы!», но водила. Кстати, та наша подружка, что ушла на фронт, погибла под Смоленском. Красивая была. Чёрные глаза и блондинка. А тогда же ещё не красились во время войны. Очень красивая и погибла…
Ещё один случай расскажу. Муся, с которой мы жили, во время войны замуж вышла и ребёнка родила. Мы девочку эту должны были мыть, а в нашем доме воды нет, только во дворе краны работают. Темно уже, окна позакрывали. Я с ведром или двумя иду за водой. Мне навстречу – красноармеец или моряк и говорит: «Не пустите ли переночевать?» Я отвечаю: «Чего ради? Идите в комендатуру». Он говорит: «Вся комендатура переполнена. Негде ночевать». А я ему: «У нас маленький ребенок. Нет-нет». А сама пошла, набрала воды. У нас тогда в квартиру было два входа: с парадной и чёрного хода. Я выходила с парадной, а заходила с чёрного. С этой стороны дверь открываю, а он – с другой, и опять… Я говорю: «Вы меня только что спрашивали, я не могу». А кухня у нас была большая и он говорит: «Ну, вот тут на кухне разрешите нам, мы никуда больше и не пойдём». Я думаю: «Действительно, пусть на кухне спят». Отвечаю: «Подождите, я пойду спрошу». Прихожу: «Муся, просятся переночевать». Она спрашивает: «Так куда мы их спать-то положим?» А у нас мебель была очень хорошая: ящики от медикаментов, набитые марлями и ватой мешки – это диван у нас был, а кровати нормальные были все. Муся говорит: «Ну, пусть ночуют». Входит один офицер, уж не помню, в каком чине, гражданский и вот этот парень – трое. Я как глянула – ну как это на кухне спать! У нас ничего нет ни поесть, ни постелить. Я говорю: «Проходите в комнату». Прошли, разделись. Один оказался начальником железной дороги Ораниенбаума. Уже потом, в процессе разговора, рассказал: «После войны я обещаю возить вас до Ленинграда бесплатно». Попросили: «Девочки, поставьте чайничек!» Поставили чайник, согрели, принесли. И вот не помню, наверное, тогда уже наступление на Нарву было, к концу войны… Может, начало 1944-го, не знаю точно… Мы, значит, хлеб поставили на стол, ну, знаете, русское гостеприимство, мы же так привыкли, и сахар-песок поставили. Они посмотрели так на нас и спросили, а есть ли у нас у самих-то что покушать. Ну, не помню уже, что мы ответили… А потом мы предупредили, что пошли ребенка мыть, а им сказали располагаться: «Вот вам одна кровать и диван». Вернулись – они уже спят, мы тоже легли. Утром проснулись – никого нет, на столе лежит буханка, вот я не помню - одна или две. И консервы в банках. А их самих уже нет. Ну, мы пришли на работу, рассказали – вот бы нам таких. Потом прошло некоторое время и тот парень вернулся. Ходил по двору, искал и попал как раз на нашего управдома: «Вот я где-то тут ночевал…». Потом управдомша нас встретила и так ехидненько: «Парень искал, говорит, что он у вас ночевал, да забыл, где…». В общем, сделал он нам рекламу! Так он нас и не нашёл. Дай Бог, жив.
Всю войну я ходила в Ленинград. Зимой - по льду, а летом – на пароме. Потом через Лисий нос. Но я не только из-за родственников ездила. Иногда пошлют за медикаментами, которые не очень тяжёлые. Мало ли срочно чего-нибудь нужно. Так случай был, правда, не со мной, что один раз поехали на лошади. А лошадь на заливе-то и сдохла. Ну, взяли самое ценное с точки зрения медицины, унесли, а за остальным решили на следующий день прийти. На командном пункте, где пропуска, предупредили, если что, с какими коробками – задержите. Не знаю, как медикаменты, а от лошади на следующий день даже копыт не нашли! И собак, кошек – всех ели!
Как всё это пережили… Тогда газета выходила, «Ленинградская правда», наверное, так у меня даже снимок есть, вырезан: Борис, мой брат, 16 лет, у Гостиного двора берёт воду из проруби. Ну, как вот он в такую даль воду нёс, я не знаю. А ещё, Вы знаете, что в Ленинграде, если идти к Дворцовой площади, на правой стороне написано, что эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна.
Тоже вот случай - мы жили на первом этаже и у нас были крысы! Один раз мы решили посмотреть, так там обнаружили 19 крыс! Мы ничего умнее не придумали: стали бросаться в крыс тапками, ножницами. А крысы, видать, злопамятные… И вот ночью моя подружка, которая потом на фронте погибла, закричала: «Люся! Посмотри на меня!» – а она вся в крови: её укусила крыса! Ездили потом на уколы в Ленинград.
Я в госпитале не помогала, только в аптеке. И там было столько народу - вечно такая очередь! Аптека тогда и сейчас – это совершенно разные вещи. Тогда даже микстуру от кашля готовили, а сейчас дадут тебе таблетки — и гуляй! Не надо и в очереди стоять. У нас же весь пол был заставлен бутылками, например, со средствами от кашля. И все нам говорили: «Вам-то хорошо, вы тут с лекарствами».
Сестра рассказывала, что очень не любили, когда во время обеда кто-то приходил, потому что надо было делиться, как у русских людей принято. И вот как-то пришёл с Кронштадта мой знакомый, что-то им принёс. Сажают его за стол и отрезают от 125 грамм по маленькому кусочку. Он рассказывал: «Когда я увидел, что трёхлетний ребёнок тоже пытается мне отрезать, я уже не смог». И Саша спрашивает (тогда в войну все парни были Сашами – это было модно): «А Борис может со мной пройти? Я ему дам пшена». Это на Балтийский завод. И они ушли с Борисом часов в пять. Сестра и мать гадали, сколько он даст пшена. Ну, наверное, стакан… Всё же тогда стаканами меряли. А может, два или четыре? Ну, в общем, гадали все. В шесть-семь часов они еще были спокойны, но в восемь – Бориса нет, в девять-десять – тоже нет. Уже не надо ни одного, ни четырех стаканов, только чтоб Борис вернулся. И вот, где-то в первом часу пришёл Борис и принёс где-то с полнаволочки пшена! Засветло идти боялся, думал, что отберут. Шёл по середине улицы - сил-то нет… Рассказывал: «Иду – присяду, засуну руку в наволочку, пожую, пожую – дальше иду». Так долго и шёл. Вера, с опытом человек, сразу же сварила, потому что все были голодные. Поели. Так и получилось, что выжили. То один что-то принесёт, то другой. Только мама умерла в блокаду, потому что всё отдавала Ирочке. Где-то уже в 1943-м году. Похоронена в Парголово. Наверное, сейчас бы ей было лет 150.
У нас семья была – восемь человек. Некоторые эвакуировались. Семья старшего брата – на Урал или за Урал. Брата звали Николай. Одна сестра в Тбилиси жила, замужем. У другой сестры муж – военный, он в плен попал. Во Львове он был командиром полка, через какое-то время попал в плен в Швеции. Там издевательств таких уж не было. Вернулся. Обычно из плена – в тюрьму. А у него сослуживцы остались. Послали его сначала в Струги Красные. И вот он там был какое-то время, а потом ему предложили то ли в Хабаровск, то ли куда-то ещё на какую-то хорошую должность. Как же, у моей дорогой сестрицы дети будут заканчивать школу где-то в Хабаровске! Только в Ленинграде. Ну, и осталась, его демобилизовали.
Замуж я выходила во время войны. У нас была четырёхкомнатная квартира. В одной из комнат жила женщина с девочкой и она сказала однажды: «Сегодня придёт мой муж с другом, не уходи никуда – я вас познакомлю». Я отвечала, что не надо мне никаких знакомств. Но, так или иначе, она познакомила. Муж меня на восемь лет старше. Мне показалось тогда – старый! Да и потом у меня был молодой человек, но тогда я чего-то с ним поругалась. В общем, война войной – а молодость берёт своё! Одним словом, договорились в театр идти. А Кронштадт-то маленький. Сходили в театр и весь город уже знал, что у меня кавалер завелся.
В 1944 году пошли в ЗАГС, там моя приятельница работала, записались. «Фамилию какую вы берёте?» – «Я свою оставляю». Сева говорит: «Людмила, бери мою фамилию – Кушнерёва». Я ему ответила: «Нет, я хочу свою!» Одним словом, к вечеру весь Кронштадт знал, что я замуж вышла, и я Кушнерёва. А девичья фамилия моя – Пахомова.
У нас и танцы были во время войны. В Кронштадте же гражданского населения почти не было. Потому как увольнение у моряков – они куда? В магазины и в аптеку, где молодые девчонки. Просто постоять, поговорить. Один раз парень – он часто заходил – сказал, что в поход уходят. Он говорит: «Люся, вот у меня есть 87 рублей, я тебе их отдам. Если вернусь с похода, ты мне их отдашь, если не нет – твои». Это были большие деньги. А он так и погиб – не вернулся...
А я до конца войны работала в Кронштадте. С тех пор, как меня направили туда, в 1939 году. А после войны нас мужем отправили в Таллин и там я тоже работала в аптеке, в военной поликлинике. А из Таллина – во Владивосток, из Владивостока – в Севастополь, а из Севастополя поменялись в Ленинград. Итого я заработала 53 года стажа. В 75 лет ушла, подумала: «Или меня кто отравит, или я кого отравлю». По-хорошему надо уйти…
Севастополь у меня самым любимым городом остался. Я до 95 лет туда ездила… Там у меня приятельницы, соседи, и они ко мне приезжают сюда.
дети были ли? внуки-правнуки?
#ИсторияСемьи #БлокадаЛенинграда
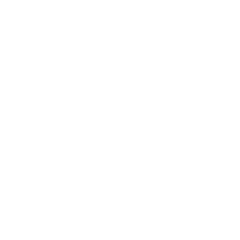
В семье нас осталось шестеро детей. Позже на фронт ушёл старший брат, ему было тогда 16. Тогда я остался самым взрослым мужчиной в семье. Тогда же и началась оккупация моего родного города Ржева. Мне было 14 лет.
Помню, немцы убивали пленных на наших глазах. Одного парня ранили, он в канаву упал. Мы ему говорим: «Молчи, молчи, лежи — не показывайся». Побежали за помощью, а когда вернулись — его не было. Пошли по кровавым следам, видим — он в школу пришёл. Подлатали его, перебинтовали, он через лес бежал.
Не знаю, как уговорил мать отпустить меня на фронт. Наверное, сыграло то, что меня поддержала тётка. В 12-13 лет, до службы, я уже стрелял, прекрасно владел винтовкой. Когда я пошёл на фронт, из вещей у меня была только рубашка. Мы лечили раненых. Пока был мальчишкой, я выписывал всякие принадлежности: простыни, одеяла и прочее. Служил под Курском, Вязьмой, Смоленском. Фронт продвинется — мы тоже.
В Беларуси, когда наступали, некоторые немцы сами сдавались. Едет наш автобус, вдруг дорогу перекрыли 15 немцев с автоматами — сдаются. Мы оружие у них забрали и сказали идти пешком. В Польше немцы бежали, бросали даже всю свою амуницию.
Фронтовой быт был непростым: продуктов нам выдали на 3 дня, а мы как-то 10 прожили. Иногда и такое бывало, что идут наши раненые, говорят: «Скорее бы снова на фронт».
— Почему?
— А потому что там жратва есть, заходим в немецкую землянку, там консервы.
Отслужил я два года в действующей армии и четыре года на флоте. День Победы мы отметили под Берлином, 10 мая 1945 года. Праздновали частью управления полевых госпиталей. Тогда на нас напали немцы, они переоделись в советскую форму. В нашей части оружия нормального не было, у кого-то наган был, у кого-то винтовка — вот и всё. 5 молодых ребят из нашего состава погибли, хотя уже был мир.
Домой вернулся на первом эшелоне мобилизованных. Всего таких мобилизованных было 75 тысяч. До Москвы ехали 7 суток. Но когда поезд встал, дал гудок, все вдруг посыпались из вагонов. Наша граница. Родина. Побежали в село — махорочку добыть и прочее. Радость была.
#ВоспоминанияОВойне #Ржев #ДетиНаФронте #Оккупация

#БлокадаЛенинграда #ДорогаЖизни #ЖенскиеИстории #ВыжитьВБлокаду
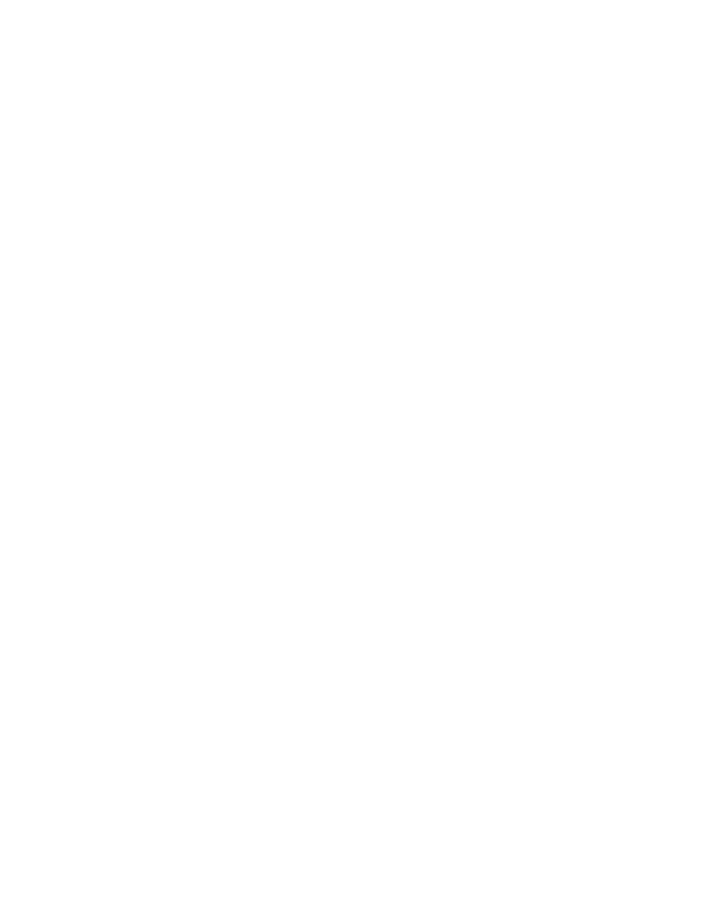
#БлокадаЛенинграда #ДетствоНаВойне #ИсторияЭрмитажа
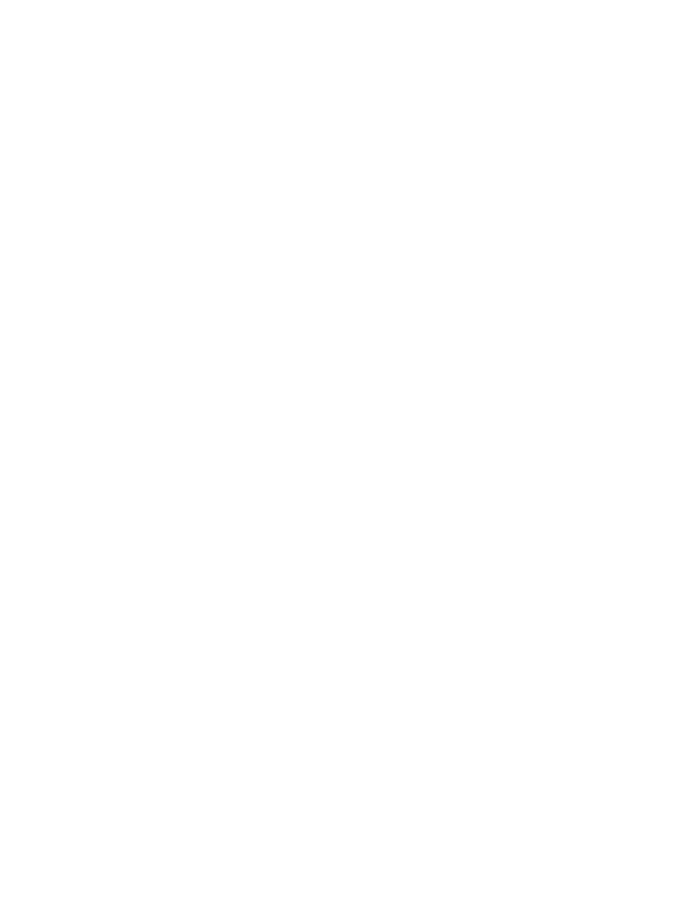
Антонина Тимофеевна Исакичева
Отечественной войны. Никто не может дать этой строгой, выдержанной женщине
её возраст — 92 года. Несмотря на болезни, вызванные тяжёлым военным
временем, Антонина Тимофеевна держит себя в тонусе и старается всё время
узнавать что-то новое.
«Давали нам грамоты как строителям, а корреспондентов не было ещё у меня», —
удивляется Антонина Тимофеевна и начинает свой рассказ.
Она родилась в 1928 году в рабочей семье. Отец, Тимофей Павлович,
работал в паросиловом цеху на Кировском заводе — этот цех давал пар для всего
предприятия. Работа считалась «чистой» — он ходил в белой рубашке, при
галстуке. В его обязанности входило следить за приборами. «Папа не
рассказывал ничего о себе, не хвалился, — вспоминала Антонина Тимофеевна, —
а его знакомый как-то приходил в гости и рассказал нам с мамой, как папу
уважают товарищи по работе». Мама, Ольга Егоровна, тоже работала. «Я была
“папиной дочкой”, а не маминой. Лет с 10 начиная, мы с папой объездили за три
года все пригороды Ленинграда, посетили все музеи, кроме Выборга —
вспоминала Антонина Тимофеевна, — отец будто предчувствовал, что это не
повторится, что времени у нас мало. А мама обеды готовила — больше
организовывала быт».
Антонина Тимофеевна выросла в Кировском районе. Сначала семья
занимала одну комнату на улице Швецова. На Балтийской улице Антонина начала
учиться в школе. Потом семья переехала в отдельную двухкомнатную квартиру в
деревянном доме на проспекте Стачек, 96, что считалось довольно престижным
для тех времён. Отец девочки тоже вырос в Кировском районе: у дедушки был
деревянный дом с садом на Драгомиловской улице. У неё была единственная
близкая подруга Ольга, с которой они жили рядом. С Ольгой после войны
Антонина Тимофеевна больше никогда не виделась и не знает ничего о её
судьбе. Ещё у Тони была бабушка, Мария Кузьминична, которая была верующей.
Несмотря на дух времени, она брала девочку с собой несколько раз в деревянную
церковь на Красненьком кладбище. Новая школа Антонины была рядом с ДК Газа,
куда они бегали в кино. Из мирной жизни остались в памяти музыкальные
пластинки — с песнями Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина…
День начала войны Антонина помнит хорошо. Её мама пришла
расстроенная, заплаканная и поделилась страшной новостью. «Я ничего не
понимала ещё, не осознавала. Когда мама сказала об эвакуации — школьников и
детей тогда в первую очередь эвакуировали — я поняла».
Сначала Антонина уехала одна, потом приехала её мама и забрала. Папа с
бабушкой эвакуировались через Ладожское озеро и их сильно обстреливали.
Бабушка умерла в дороге от ранения, так до Челябинска и не доехала. Все их
вещи утонули. Семью привезли на закрытый участок с бараками. Эвакуированных
было много: из Харькова, из Минска… Жили в холодном бараке с разбитыми
окнами: не было дров, одна пустая плита. В комнате жило по 4 семьи, люди спали
на холодном полу — не было даже ничего, что можно постелить на пол. Отца не
отпускали с завода, работники ,по сути, были, как в армии. Завод изготавливал
военную продукцию для фронта — Антонина Тимофеевна даже не знала, что он
производил. Вскоре её настигли потери — сначала заболела воспалением лёгких
и скончалась мама, а вскоре умер и отец. Так девочка осталась совсем одна
среди чужих людей. Она не имела возможности учиться и сидела в бараке,
поэтому так и не увидела город. Было у Антонины лишь одно рваное платье.
Местные жители эвакуированных, в целом, не любили, да и никому не было до
них дела.
В 1943 году один добрый человек похлопотал, и 15-летнюю девушку
направили в конструкторский отдел, где, благодаря своему каллиграфическому
почерку, она стала работать чертёжницей. «После снятия блокады в 1944 году я
решила вернуться в Ленинград и стала уговаривать начальника поезда, —
рассказывала Антонина Тимофеевна, — мне сказали ехать в тамбуре, а не в
вагоне, потому что военные проверяли документы. Помню, что при их появлении
мне приходилось бегать по поезду, чтобы не попасться им на глаза». Девушке
пришлось проехать 13 суток в тамбуре, что потом сказалось на её женском
здоровье. На станции «Сортировочная» девушку забрали в милицию, но вскоре
отпустили. Антонину направили в ПТУ, где на фабрике «Скороход» она шила
сапоги для солдат.
День Победы не остался радостным днём в памяти Антонины Тимофеевны:
«В 1945 мы праздник не справляли, разве что получили лишний обед. Я не
веселилась, а плакала о родных, потому что осталась круглой сиротой». Погиб на
фронте и дядя, брат отца — до войны он был военным, ездил по городам всей
страны со специальными заданиями. Из семьи у девушки никого не осталось. «С
14 до 17 лет я себя воспитала сама — в самый важный период для человека,
когда он начинает что-то понимать», — с уверенностью говорит она. Несмотря на
то, что Антонина Тимофеевна работала среди мужчин и встречала разных людей,
она никогда не употребляла грубые слова: «Меня и без них уважать будут».
Послевоенная жизнь тоже была трудной. В 1946 году можно было стоять по
двое суток ждать машину с хлебом, и часто его не доставалось. В то время
обращали внимание на строителей — эта работа была уважаемой, им могли дать
лишний талон на обед. Антонина Тимофеевна уехала в Дубну, потому что её
мама была родом из Москвы, и в тех местах жила её тетя. В 1951–1953 годах она
работала на восстановлении железной дороги Москва–Дмитров–большая Волга.
Также нужно было продлить дорогу до Дубны. «Сам же город Дубна строили
заключённые. Нам пришлось общаться с заключёнными, нужно же было
спрашивать что-то. — вспоминала Антонина Тимофеевна, — не все из них были
бандитами. Просто время тогда было суровое: серьёзно наказывали за опоздания
и прогулы. За один прогул могли дать два года даже после войны». В 1953 году
она вернулась в Ленинград и поехала работать в Лодейное поле, потому что
негде было жить, общежитий не давали. Там они строили дома и квартиры. Позже
ей удалось остаться в родном городе, получить работу и общежитие на
Дальневосточном проспекте.
У Антонины Тимофеевны были две строительные специальности маляра и
моториста. В 40 лет начальство, которое очень уважало и ценило Антонину
Тимофеевну, отправило её учиться на бухгалтера. По этой специальности она и
отработала до пенсии. Антонина Тимофеевна очень любила читать, вместе с
мужем заказывала книги в библиотеке. Ещё одним из её увлечений стало пение
— вместе с ребятами из общежития они устраивали домашние концерты.
Антонина Тимофеевна считает, что больше таких хороших песен, как в её время,
не было. «Любушка» — «Нет на свете краше нашей Любы», «Рос на опушке рощи
клен», «Я другой такой страны не знаю…» А одну песню «Позабыт,
позаброшен…» она считает словами о своей судьбе сироты, которой пришлось
самой себе пробивать дорогу в жизни.
«Позабыт, позаброшен
С молодых, юных лет,
Я остался сиротою
Счастья–доли мне нет.»
Большой радостью в её жизни, кроме собаки, стал маленький попугайчик Тоша.
«Я всю жизнь любила животных, даже больше тянулась к ним, чем к людям, —
говорит женщина, — Тоша — чудо был, а не попугай, ведь самочки волнистых
попугайчиков обычно не говорят. А Тоша у меня разговаривала». Она даже
посвятила попугайчику рассказ в своей записной книжке.
Автор: Анна Жигалова
#эвакуация #ДеньПобеды #БлокадаЛенинграда
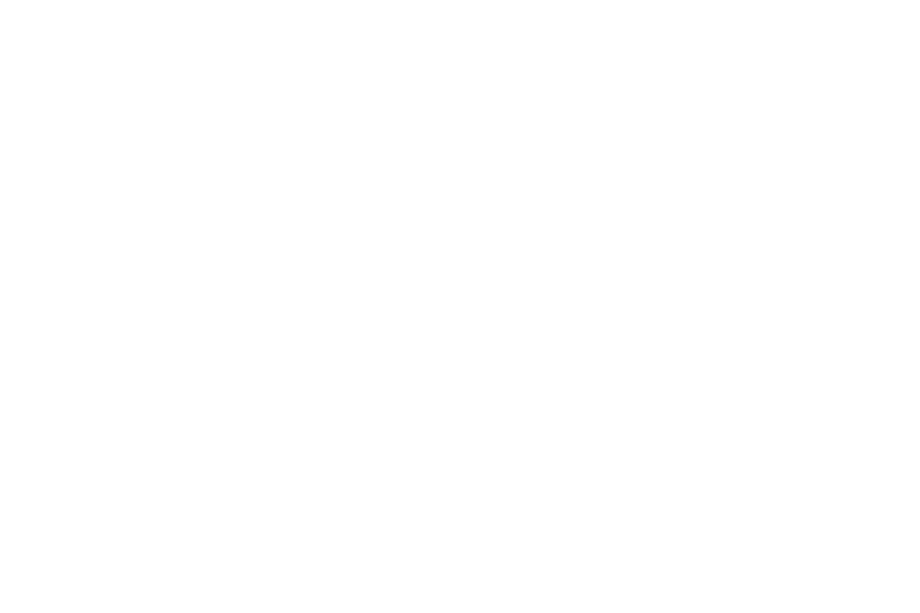
Зорин Михаил Петрович
оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией» и ещё более 20
правительственными наградами.
«Родился я 16 сентября 1923 г. и до войны жил на улице Чайковского, в доме 6. В доме 10 жил Ботвинник — это чемпион мира по шахматам, а в соседнем доме жили немцы, мы находили с ними общий язык и играли. Однажды, немцы стали куда-то постоянно уезжать,
потом выяснилось, что их вывозили в Германию.
Двор у нас был большой, и там стояли дрова. Был такой случай — на Чайковского, 4
находился продуктовый магазин, который обокрала какая-то банда. Они украли много
консервов и всё это перетащили во двор в дрова. В этих дровах они и сделали себе убежище, да так сделали, что трудно было их найти вообще. У меня там рядом жили родственники, они меня домой отправили, но я остался. Так мы и наткнулись на большую группу этих хулиганов, среди которых были женщины. И вот они обокрали магазин, в дамских сумочках притащили продукты во двор и попрятали. А я сообразил, что нужно вызвать милицию. Милиция приехала: «В чём дело?» Ну я рассказал. Потом милиция даже засаду там устроила, но шайка разбежалась, никого не нашли. А вот склад в дровах нашли, хотя его так хорошо замаскировали, что даже мимо пройдёшь и не видно. Но собака всё это почуяла — там молодые женщины сидели, да водку пили.
На фронт я ушёл в 1941 году, как началась блокада — добавил себе один год и пошёл.
На Марсовом поле военкомат был, и нас быстренько определили там по частям. Там до сих
пор висит доска, что там формировалась 4 дивизия Народного ополчения. Попал я в 86
стрелковую дивизию, в 330 стрелковый полк. Позже ещё был в 95 батальоне связи. Потом
повезли к Витебскому вокзалу, там переодели, накормили, напоили и всё, теперь мы —
солдаты.
Воевал я на Невском Пятачке от начала и до конца и там же был 4 раза ранен. Сначала
меня ранило в шею, потом в ногу, потом тяжёлое в спину, ну а потом в руку. И меня спасали
наши прекрасные санитары. Из той команды, которой мы на Невском Пятачке были, нас
осталось в живых только двое. Я был в штабной роте 95 батальона связи. Командир наш нам
говорил: «Немцы идут — вы их не бойтесь, они же нас тоже боятся». Но что бы он ни
говорил, всё равно осадок боязни оставался.
Помню, как мы были на другой стороне Невы недалеко от Ладожского озера. Начался
обстрел. Мы наступали, а они отступали, в итоге нас заманили к лесной полосе, а там места
были непроходимые, мы оттуда еле-еле ушли. Там мы попали в окружение. Страшно было и
боязно, но командир сказал не бояться. Нам навстречу шли трое, он сказал нам оставаться, а сам к ним пошел. Его хотели расстрелять, а он скомандовал: «Пли!» Те испугались и убежали.
Выбрались мы оттуда просто, так как сплошной линии фронта не было, лишь очаги разные.
Потом был допрос в НКВД, мол, откуда мы, с какой части. А когда немцы наступали, то леса спиливали, но деревья клали так, чтоб танкам потом
не пройти было. Но наши танки проходили!
Первое ранение я получил на Невском Пятачке, оно было в шею. Это было рано утром,
немцы начали стрелять по консервным банкам, а звук был такой, словно наступление идет.
Мы все повыскакивали из своих землянок, а снайперы тогда каждую землянку пристреляли,
вот и начали палить. Я выбежал, а мне вдруг удар в шею. Я ещё подумал, что старшина
ударил, а за что — не понял. Трогаю шею, а там кровь, значит ранило. Рядом убитые лежали,
с них уже сапоги стягивали. Долго я тогда пролежал, а потом к берегу рванул и сразу в
санчасть, а за бугорком сидела санитарка да двое стрелков, и меня остановили, мол, куда ты.Я говорю, что ранен. Меня в сторону, расспросили, как и чего, проверили не самострел ли.Потом медсестра перевязала, а затем нас в кусты положили, приказали ждать, нас четверо было. Нам сказали, что в случае чего открывать стрельбу. После меня направили в госпиталь, там я полтора месяца пролежал. А когда вернулся, меня назначали уже в 95 батальон связи.
Заградотряды следили за трусами, которые с поля боя бежали. Таких задерживали и в
штрафную роту отправляли. Ранения проверяли у каждого. Кого нужно — перевязывали,
затем санитары решали, кого нужно отправлять на другую сторону Невы, а кого — нет. На
другую сторону Невы переправляться было опасно, немцы постоянно стреляли. Вот вроде
тихо, а как до середины доходим, сразу долбить начинали. Обычно, не доходя до берега
метров 20, мы все выпрыгивали с лодки, чтобы скорее попасть на берег. Там было мелко, так
что мы добегали, но иногда в ямы попадали. Потом мы уже знали эти места и обходили их.
Вообще, с питанием у нас было плохо, давали кусочек сухаря, а чтобы его скушать,
надо было ещё его отломить, да в котелок положить. Давали нам ещё баланду, а это мутная
вода, да две крупинки. Консервы тоже давали. Но мы все всегда кушать хотели. Ребята все
были хорошие, не бросали никого, всегда вместе, последний кусочек хлеба отдавали, еду
делили поровну, если тебя нет на месте, то тебе оставят твою порцию. Спали и ели мы прямо
в окопах. Сна было мало и только ночью, днём нам не давали спать. А ночью накроешься
плащ-палаткой, вроде тепло, не мокнешь.
Ещё немцы долбили постоянно, а мы бегали туда-сюда. Уже знали, что немец ещё пару
снарядов сюда направит, а затем в другое место пойдет, так и выживали.
Хоронить всех убитых некогда было, некоторых в Неву бросали, некоторых хоронили,
но в основном все на местах оставались. При прямом попадании оставались одни сапоги да
ноги.
Зимой было очень туго, руки мёрзнут, холодно, а одеты мы были плохо. Лежишь и
шевелишься, чтобы хоть немножко тепло было. Ещё нам давали плошку с фитильком, он
минут 20-30 мог гореть, вот так мы и грели руки. Это был единственный источник тепла. А
ещё автомат приходилось держать, вот, бывало, возьмёшь его, а стрелять им не можешь, а
только когда руки погреешь, то потом уже нормально автомат в руках держишь. Спали прямо тут же, проснёмся потом, встанем и давай друг об друга колотиться и греться.
Когда после госпиталя я попал в 95 батальон связи, то там мы тянули линию и её
нужно было тянуть от командира батальона до другой части. Это была такая металлическая
катушка, а на ней где-то 250 метров провода. Было две катушки, одна в работе, а другая на
плечах. Помню, шёл я по боевому заданию, а мне удар в ногу! Ну думаю, оступился может,
потом почувствовал какой-то ожог, пуля-то горячая. Вдруг, что-то мокро стало, я руку сунул,
чувствую что-то липкое, а это кровь. Оказалось, что ранение в ногу, но пуля кость не задела,
лишь мягкие ткани, да навылет прошла. Крови я тогда много потерял. А если бы мне кость
задело, я бы и ходить потом не смог.
Ну, я пополз метров 200 к воде. А там санитары сидят. Они мне и говорят:
«Раздевайся!» Я смотрю и думаю, а как я буду раздеваться, когда тут молодые девушки. А
мне снова приказ, чтобы раздевался. Ну, я разделся немножко, а мне опять приказ, чтобы
полностью раздевался. Пришлось полностью раздеться, чтобы меня осмотрели. Потом,
несмотря на то, что я сам был ранен, мне сказали, что вот такого-то человека нужно отправить туда-то. А я идти не могу — ноги не держат. Тогда мне два укола сделали, чтоб полегче стало, и я пошёл. Ну, командир мне и говорит, давай потихоньку-полегоньку, хоть ползком, да донеси, а там его заберут. Позже нас переправили через Неву в тыловую часть. Там меня подлечили и обратно на фронт отправили.
Вообще, при каждой дивизии, при каждой части, были свои санитарные части, чтобы
раненых никуда далеко не отправлять. Нас ни о чём не спрашивали, а просто если ты связист,то тебя лечат и отправляют обратно связь делать.
Ещё нам рассказывали, что в городе построили виселицы, начали привозить пленных
немцев, там их вешали. Ловили их партизаны, а висели они, пока туша не портилась.
Был случай, что полз я до землянки, тащили мы с товарищем кабель связи, а тут меня
ранило. Попали правее позвоночника, ноги отказали, ползти не могу. Полежал, чувствую, что пальцы шевелятся, значит всё нормально. Ноги-то не работали, а голова и руки работали.
Ранение в спину произошло разрывной пулей. Она попала в приклад автомата, а её осколки уже мне в спину. Попади пуля мне напрямую в спину, я бы ходить в будущем не смог бы.
Товарищ мой звонит на другой пункт и сообщает, что Зорина ранило. Ему сказали,
чтобы в землянку меня положил и дотянул кабель. Ну а как он дотянул, сразу команда
«Занять оборону!». И вот пролежали мы в этой обороне часа 2-3. Потом он получили команду идти вперёд, а меня в землянке оставить. И вот в этой землянке я один целую ночь до утра и
пролежал. Был сильный обстрел, ко мне не подойти даже, кругом немцы ходят. В землянке
было страшно, а вдруг туда немцы придут? А я лежал в землянке один с автоматом. Но всё
обошлось, за мной потом пришли. Санитар Френкен без зазрения совести взвалил меня на
плечи и потащил. А у меня ранение в спину, мне дико больно, и я кричу ему: «Мне же
больно!» А он мне: «А мне тебя тащить ещё больнее! Так что не пищи! Терпи!» Пришлось
терпеть. Ну а что я мог сделать? Это же война, а не прогулка. А санитар с юмором был, так
что унывать мне не пришлось. А такие боли были, такое ранение было! Но терпел. Немцы
ещё тогда увидели, что кого-то тащат, и начали стрелять, но меня уже успели дотащить, всё
было нормально.
Потом положили меня в госпиталь на другом берегу Невы, нас в палатке лежало
человек восемь. И вот прямой снаряд попал прямо в палатку и разорвался там. Меня взрывной волной отбросило, а все остальные погибли. В госпитале кормили плохо. Хлеба получали по
125 грамм. Кушать очень хотелось, организм слабел. Утром была каша, её съедали сразу.
Помню, что нам ещё давали таблетки, проглотишь одну, и вроде сразу полегче становилось.
На войне нам страшно не было. Убьют — значит убьют, лишь бы не ранило. Иногда
нас грозились расстрелять, ну мы говорили, мол, стреляйте. Мы ничего не боялись, лучше
пусть убьют, чем так мучиться. Но если ранит, то калекой останешься. Калек потом было
множество, кто с палкой, кто без ног, кто и того хуже. Потом всех калек собрали и увезли
далеко. А там начали распределять, и вот некоторых людей умерщвляли, которые совсем
плохи были. Им давали лекарство, и они уходили туда, откуда вернуться нельзя было.
Хорошо, что я в плен не попадал, потому что, если бы попал, то со мной бы там
разговаривать даже не стали, к стенке и всё. Но наши ребята попадали, так немцы их
заставляли во время наступления идти впереди, таким образом, мы расстреливали своих же.
Вообще, немцы творили, что хотели. Ещё слышал, что немцы, когда в плен наших
брали, издевались над ними. Вот привяжут за две ноги к лошадям и потащат. А там дальше
столб стоял. А тащили так, чтобы человека пополам разрывало. Это так с пленными делали.
Но в основном, немцы всех расстреливали, без допроса, без всего.
Было у меня и четвёртое ранение в руку, в кисть. Я ещё подумал, почему это рука не
работает. Глянул, а там кровь течёт. Потом все наладилось. Это мне в руку осколок от мины
или от снаряда попал. Я сразу к санитарам, они меня осмотрели, сказали, что ранение лёгкое, но хотели уже в госпиталь отправить. А я отказался, сказал, что никуда не уйду, потому что
тут мои ребята. Я им ещё говорю: «Но рука-то у меня не работает!» Меня спросили: «Обратно хочешь? Сейчас отправим!»
После прорыва блокады нас отправили в сторону Пулково, мы были левее аэродрома.
Там уже полегче воевали, так как были наступательные бои. С нами шли девчата. Они были
санитарками, телефонистками, снайпершами. Когда мы останавливались, то делали для них
землянку, чтобы они могли там спокойно переодеться да поспать. Основное делали мы, но
достраивали девочки потом уже сами.
Была у нас Анна Альтшуллер, она до этого прошла снайперскую школу и потом была
направлена на передовую. Вот она выслеживала немцев, кто куда шёл, а потом бац, и немец с дерева сваливался! И надо было сразу покинуть это место, так как немцы тут же стрелять начинали.
Ещё я был на допросе НКВД, потому что я попал не в ту часть. А меня направили, ну я
и пошёл. Я так им и сказал, мол спросите у них, что вы у меня-то спрашиваете, я — солдат.
А вообще, кто был дезертиром, попадал потом в команду, которая по минным полям
ходила и разминировала их. Там людей разрывало на части, на мины ведь нарывались.
Иногда у нас была баня — это большая палатка с дровами да два ковша воды. Ты приходил, голову мыл, подмышки мыл, потом санитары обмывали тебя, сразу обмундировали и на передовую.
Когда воевал в Пулково, меня поймали немцы. Чтобы убить или поиздеваться, они
привязали меня к лошади и погнали её по минному полю. Но лошадь не побежала туда, куда её направили, а свернула и в лес сиганула, так я жив и остался. Потом взял и пришёл в свою часть. Но были подлецы, которые сами в плен сдавались. Когда немцы окружали, то они находили ходы и вместе с власовцами и немцами потом уходили.
Конец войны я встретил на Эльбе в Германии, а попали мы туда интересно —
посадили нас на эшелоны и повезли, а куда — не говорят. Так и привезли в Германию на
Эльбу, на этой стороне наши, а на той стороне немцы.
В Германии с питанием было уже отлично. Кормили нас там, как на убой. Вот тебе
хочется печёнку, убивали корову, печёнку вырезали, а корову бросали. Даже такое было.
Солдаты могли забрать у немца, что хотели, но если солдат превысит полномочия, то сразу
расстрел. Немцы боялись, что мы над их дочерьми глумиться будем. Но ни одну немку, ни
одного солдата мы не тронули. Девушки ещё свои «места» смазывали вареньем, делали вид,
что у них менструация, чтобы их никто не трогал.
Было такое, что немцы переходили на нашу сторону, тогда они попадали сразу в НКВД
и там их проверяли, не шпионы ли они. Когда на Эльбе были, то немецкое командование,
которое было на нашей стороне, приглашало к себе, но не всех, человек 5 отбирали,
спрашивали, как воевали.
Был такой случай в Германии. Сидим, а к нам подходит немец, приглашает в гости, ну
мы и пошли. Он был нашим патриотом, перешёл на нашу сторону. Вот нас шестерых
посадили за стол. Они начали расспрашивать, что да как было. Ну мы давай рассказывать.
Потом они с женой водку достали, предложили выпить, а мы боимся, вдруг отравят. Хотя
выпить солдаты любили. Ну они первые сначала выпили, а потом мы, и так все до чертиков
напились… А много ли надо было? Организм слабый, брало быстро.
Был у нас командир — Фурман Иван Степанович, оказалось, что он был начальником
смены в моём цехе, когда я на заводе работал. Командиром он был честным и порядочным.
Он ещё прошёл гражданскую войну. Вот идёшь, воротничок расстёгнут, а он подзывает к себе и говорит: «Повернись задом!» Да плёточкой слегка. Потом мы все застёгнутые ходили, так он учил нас порядку.
Помню, идём по Германии, а дорога вдруг кончается обрывом, ребята все перелезли,
кричат мне с другой стороны: «Миша, давай, не бойся!» А что давай? Я боюсь высоты,
вставал, а голова кружится, но перешёл, пришлось.
После войны на Невском Пятачке организовали кухню. Девчата сидели, мы сидели.
Сидим да разговариваем. Одна девушка позвала прогуляться. Мы пошли. Взяла меня под
руку. Потом мы присели, и она попросила рассказать про военные действия, так как её отец
тоже здесь был. И так получилось, что я её отца хорошо знал, мы с ним воевали вместе,
хороший был командир.
Родители мои войну пережили. Отец, Пётр Александрович, не был призван по
возрасту. А мать, Прасковья Алексеевна, у меня была во время блокады в Ленинграде, потом её вместе с моим младшим братом Сергеем переправили на большую землю, и попали они в Янгиюль, это под Ташкентом. А потом мама вернулась в Ленинград, в нашу старую квартиру.
Помню, что я после войны приехал на Чайковского, поднялся домой, а там — никого, мама
куда-то отошла. Ну я сижу, жду. Наконец, дверь открывается и заходит мама, видит меня и
падает: «Как это так?! Ты приехал?! Почему ничего не сообщил?? Мы же тебя уже давным-
давно похоронили!»
Ну а я вообще дослужился до сержанта войск связи. Но до сих пор, когда ложусь спать,
то иногда такие сны снятся, что ужас. Снова военные действия, сон сразу плохой, постоянно
просыпаюсь».
Сейчас Михаил Петрович, несмотря на свой почтенный возраст, проводит активную
работу по сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, принимает участие в памятных мероприятиях, проводит встречи со школьниками и студентами. Недавно
он стал главным героем документального фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»
(режиссёр Пётр Корягин), премьера которого прошла на киностудии «Ленфильм». У него есть дочь, внук и правнук.
#ГеройВОВ #БлокадаЛенинграда #связист #БоевыеРанения
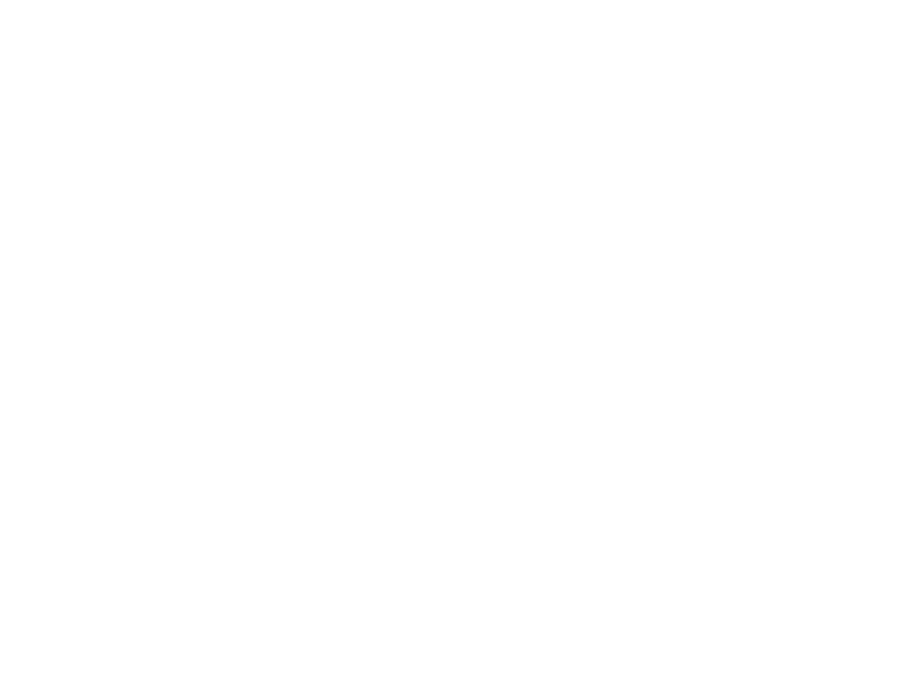
Галактионов Владимир Георгиевич
с 1941 на 1942 год. Сотрудники второй психиатрической больницы устроили детям ёлку. Я
помню, как меня стали одевать, укутали всего, словно шарик. Пошли в больницу, там на
столе стояла ёлка, на ней не было игрушек, зато висели бумажные флажки. Потом вышел
высокий дяденька, одетый в красный халат, он водил с нами хоровод. Нас было 3-4 ребёнка и
все укутанные, невозможно было раздеться — на улице было 43 градуса мороза. Нам сделали
подарок — 3 или 4 витаминки С и один леденец, завёрнутый в фантик. Я принёс его домой, и
мы с братом разделили леденец пополам. Потом несколько дней ели его, запивая кипятком.
Память была у меня хорошая. Когда кончилась война и все забыли про ту ёлку, маме дали
билеты в ДК им. Горького. Мама после представления встретила меня и спросила
понравилось ли мне представление. Я сказал, что мне всё понравилось, но дед мороз был
ненастоящим. Мама спросила: «А где ты видел настоящего?» Я ответил, что у неё в
больнице.
Блокаду описать невозможно, её нужно было пережить. Мы прошли все девять кругов ада.
Выходишь из дома, а перед тобой падает человек, и к нему никто не подходит, а
возвращаешься — у человека вырезана часть тела. Нужно что-то было кушать — на каждом
шагу было людоедство. Детей не выпускали на улицу, страшно было. Мама настрого
наказала старшему брату меня не выпускать: «Владимира съедят!» Такое невозможно
выдумать. Неописуемый ужас. Голод, отсутствие воды и электричества, но была вера.
Помню слова диктора: «После продолжительных и кровопролитных боёв наши войска
вынуждены были отступить на заранее подготовленные позиции». Кольцо стремительно
сужалось и мы понимали, что скоро немцы могут войти в город. У нас напротив жила
немецкая семья, они были членами Третьего интернационала, и их не выслали из Ленинграда.
Они были чудесные тихие люди. Я и сейчас дружу с «русскими немцами» пережившими
блокаду. Фашисты и немецкая нация ничего общего не имеют. Обе нашей нации горевали,
население настрадалось. Я помню разговор мамы и соседки-немки. Она спрашивала, что мы будем делать, если враг войдет в город. Мама сказала, если постучатся к нам, она огреет их чем-то тяжёлым, а потом пусть делают, что хотят. Никакой паники не было, был настрой.
В начале войны мы ещё прятались в бомбоубежище, а потом очень многие перестали, в том
числе и наша семья. Попадёт снаряд, засыпет землей и никто не будет расчищать убежище и освобождать тебя. Мама говорила, что лучше умереть в своей квартире на кровати, чем быть заживо погребённым. Однажды в наш дом попала бомба — страшное зрелище. Во время войны всех обязали сдать все приёмники и фотоаппараты на хранение. Однако мой брат не сдал и сделал снимок дома, в который попала бомба.
Во время войны дети сидели в закрытом пространстве, и каждый выход на улицу был
запоминающимся событием. Я помню себя с 2-х лет. И всё это как мозаика из отдельных
фрагментов. Однажды, повели меня в поликлинику, идём по улице, а ни одного человека нет,
это и врезалось в память. Улицы были пустыми.
Помню, как на стёклах была наледь в три пальца и непроглядная тьма, потому что рано
смеркалось. Крысы были ещё одним ужасом, потому что размером они были с кошку,
отъедались на мёртвых людях. А ты, маленький ребенок, сидишь в темноте и холоде и
думаешь — кинется она на тебя или нет. Со времён блокады у меня остался шкаф, а сзади
дырка большая, которую выгрызла крыса. Но родители придумали от них средство. Кровати
тогда высокие были, на них матрас с пружинами, а по обе стороны — железные спинки. Так,
этим спинкам протягивали веревку, а на неё вешали кастрюлю, а мне давали в руки что-
нибудь металлическое, чтобы я, как увижу крысу, стучал и создавал шум, от которого они
пугались.
В Ленинграде организовывали детские дома и садики, раньше они назывались «очагами».
Повезло тем детям, кому туда удавалось попасть, так как там был завтрак и обед. Варили
манную кашу и разбавляли тремя литрами воды. Это было хоть что-то, и многие выжили
благодаря этому. Мы с братом, к сожалению, не были в очаге и довольствовались порцией
хлеба в 125 грамм. Сложно было наесться, да и не хлеб это был вовсе, там даже ни грамма
муки не было, одна целлюлоза.
Был ещё один вариант получить паёк — это донорство. Моя бабушка сдавала кровь. Сначала мы думали, что это патриотизм, и мама ругала бабушку, так как ей и так с трудом удавалось ходить. Бабушка отшучивалась и говорила, что это полезно и мобилизует организм. Если переехать Неву, в сторону Марсового поля, то на улице Чапаева была столовая. Человек, сдавший кровь, мог поехать в столовую и забрать свой паёк, при условии, что он туда вообще доедет. В паёк входило первое, второе и третье блюда. Бабушка после донорства брала меня, и мы ехали на улицу Чапаева. С собой у нас были 2 глубоких, 2 мелких тарелки и 2 стаканчика. Бабушка делила паёк пополам. Броситься на амбразуру было легче, чем отдать полпайка, чтобы ребёнок выжил. Бабушка спасла меня, а сама вскоре оказалась на Пискарёвском кладбище. К первой весне умерло 600.000 ленинградцев.
Когда началась война, многие ринулись на фронт с мыслью, что мы быстро разгромим врага, и война закончится. А как только ребёнку исполнялось 14 лет, он сразу же шёл на
производство. Тогда за деятельность на производстве давали рабочую карточку, по которой
полагалось 250 грамм хлеба. В частности, поэтому все и шли на производство, а некоторым
удавалось устроиться и пораньше. Сейчас понимаю, что во многом нам помогли новгородцы.
Если бы они тогда так сильно не сдерживали немца, то он вошёл бы в Ленинград. Мы за счёт
этого сумели из Ленинграда отправить миллион двести человек. А вот если бы их не
эвакуировали, тогда норма пайка была бы не 125 грамм, а в 4 раза меньше. Все бы погибли.
У меня были очень образованные бабушки — одна из них в блокаду работала врачом. Они со мной занимались, научили быстро читать. Бабушка показывала «Божественную комедию» , а мы рассматривали картинки и читали. Тогда я схватывал всё на лету. Сейчас память странно устроилась, могу стихи читать часами, а что вчера было — не скажу. У меня с детства образная память, если нужно было что-то запомнить — рисовал картинку.
Когда были детьми, мы осознавали, что город окружён, но не понимали, что означало «снять
блокаду». Но когда её прорвали, нас пригласили в гостиницу «Астория» и угощали едой. Нам поставили гранёные кружки и в них компот из чернослива. В то время стакан сладкого
кипятка был пределом мечтаний, а тут компот! Все обнимались, целовались, в городе
творилось сумасшествие, весь народ собирался у Невы смотреть салют. Я спросил своего
брата Мишу, который был старше меня на 10 лет, что означает «снять блокаду», а он ответил: «Жратвы будет — во!»
После прорыва блокады стали давать дополнительный паёк. Привезли бидончик с варевом,
которое мы ели, а там жёлтое пятнышко со спичечную головку. «Неужели все-таки
добавляют капельку жира?» — подумал я. Это мне, трёхлетнему мальчику, тогда хорошо
запомнилось.
Все, кто прошёл блокаду, навсегда остались инвалидами. Перенести такой ужас и остаться
здоровым невозможно. Зато в дальнейшем многие переживали трудности с мыслью:
«Блокаду пережили и всё переживём!» Обидно только, что нас всех, кто был в блокадном
Ленинграде, под одну гребёнку судят. Мы прожили 900 дней, от начала и до конца блокады.
И когда мне говорят, что понимают каково это, представляясь тоже блокадником, я задаю
один вопрос: «В каком году эвакуировались?» И если на вопрос отвечают, что в 1942 году, я
понимаю, что человек только слышал о блокаде, а мы прожили каждый из её 900 дней. Кто
эвакуировался - вырвался из ада, ел картошку и засыпал не под обстрелы. Мы же каждую
ночь засыпали под обстрелы и не было гарантии, что мы проснёмся. На первом месте должны быть юные защитники, которые получили медали, за ними — те, кто пережил блокаду с первого и до последнего дня, а потом — те, кто жил в блокадном Ленинграде и покинул его спустя время, отправившись в эвакуацию.
Во время войны я мечтал стать медиком, потом мечтал о море, но после блокады у меня
открылся туберкулёз, и о море пришлось забыть. Да, и не было времени особо у нас мечтать
— нужно было помогать родителям. Когда я закончил школу, мне нужно было идти на завод
помогать маме, а школу я закончил хорошо, без троек, по всем ведущим предметам были
только пятёрки. Но не было возможности учиться, надо было работать.
Я очень доволен своей жизнью и не хотел бы другой. Я благодарен маме и брату. Не будь
такого тяжёлого детства, я бы вырос совсем другим человеком! Ленинградцами мы себя
никогда не считали. Мы — питерцы, всегда скромно одевающиеся, разбирающиеся в
архитектуре, живописи и музыке. Это образование и воспитание. Куда бы мы ни приезжали,
нам все говорили: «Вы, случайно, не из Петербурга?»
Владимир Георгиевич Галактионов уже 6 лет возглавляет Региональную общественную
организацию «Ленинградский Союз Дети блокады – 900». Он женат, у него есть сын, трое
внуков и трое правнуков.
#БлокадаЛенинграда #Голод #Канибализм #ДетиВойны
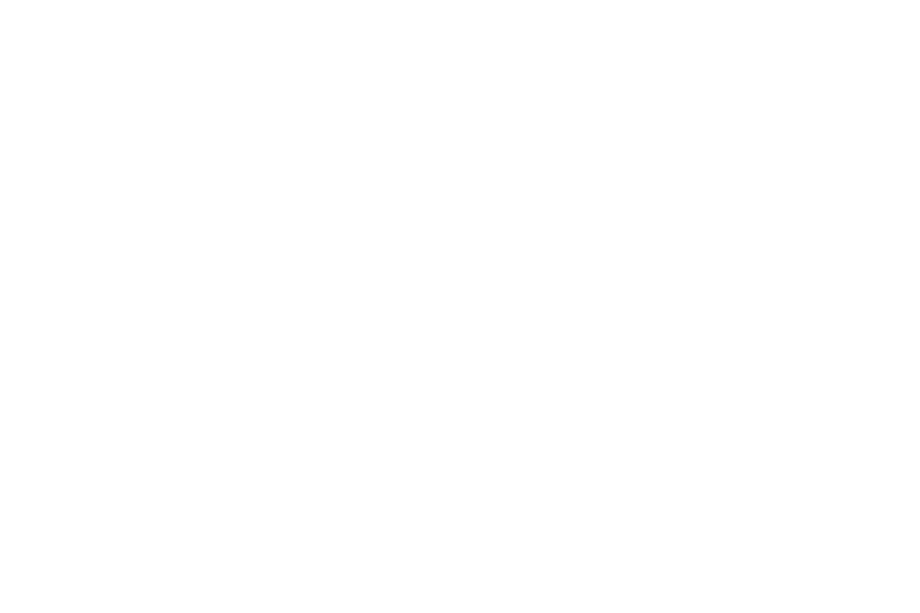
Могучая Маргарита Эмильевна
Это было 22 июня 1900 года. В этот день, спустя 41 год, началась война.
Раньше не было паспортов, была только трудовая книжка, туда всё и записывали. Моя мама — Зайцева Александра Ивановна. Родилась она в
Костромской области в 1900 году. В Санкт-Петербург её привезли, когда ей было шесть лет и тут её сразу отдали портнихе. Мать у неё умерла рано, а отец женился во второй раз и снова на Екатерине. И вот тогда у неё появились два
младших брата, Коля и Валера, они были 1904 и 1906 годов рождения
соответственно. Они находились у неё на иждивении, так как она была старшая.
Валерий потом женился, и у него родился сын. Его жена Лёля во время блокады
сдавала кровь как донор, а сам Валерий был чахленький да маленький, поэтому
во время блокады он в обозе был. Ну а Николай с мамой остался.
Когда моя мама подросла, то ей надоело быть портнихой. Она пошла на
курсы медсестёр, это ещё при царе было. Потом началась Первая Мировая
война, и она пошла работать в Боткинские бараки. Мама часто бегала за
лекарствами в аптеку, которую содержал будущий мамин свёкор. В этой аптеке
работал мой папа, так родители и познакомились.
В 1921 году мои родители поженились, и мама получила фамилию Франк.
Потом мы переехали с Рождественской улицы и стали снимать комнату на
Введенской улице, напротив завода Кулакова. Мама работала далеко от дома, а
папа работал рядом на печатном дворе.
Блокада началась 8 сентября 1941 года, никого дома не было. Папа был на
работе, мама на казарменном положении в поликлинике. Дядя Коля пришёл к
нам 11 сентября, я тогда во дворе прыгала. Он пришёл и спросил меня, где мама
и папа. Я ему всё рассказала. А сам он стоит в военной форме и говорит, что его
в армию забрали. Так как он любил порой выпить, он зашёл к нам и прям из
горла глоток сделал. Потом рассказал, что стоят они в Стрельне, их там много,
пить нельзя. Скоро немец будет наступать. Вот всем и предложили, что дадут
много спирту тому, кто ляжет под гусеницу танка. Дядя Коля продолжает: «Я
согласился! Ну а что? Выпить нельзя, немцы идут, они всех убьют!» Но я не
знаю, было ли это или не было в итоге.
Помню, как мы с папой в первый раз пошли на ёлку, это ещё до войны
было, мне тогда уже 13 год пошёл. И вот мы пришли, походили вокруг ёлки, а
подарка-то мне и не досталось, сказали, что я выросла уже.
До войны мы во дворе постоянно играли друг с другом. Мальчишки
бегали везде, где только можно и нельзя. Ещё мы играли в казаки-разбойники. И
мне выпало убегать с Петькой. Он был с соседнего дома, его только недавно
стали выпускать гулять с нами. Вот так во время игры мы с ним и
познакомились.
Однажды, уже во время блокады, я пошла встречать папу. Стою и жду его.
Тут Петька меня зовёт, мол иди сюда скорей. Только я зашла во двор, а он сразу
давай закрывать калитку наших ворот, а потом быстро говорит мне: «Давай
толкай, закрывай! Не спрашивай, надо!» А закрывалась калитка на крюк очень
туго. Стержень плохо шёл, оставалось совсем чуть-чуть. И тут бац, тяжёлый
удар ногой в дверь. Хорошо, хоть калитка сама закрыта была. Мы держим, не
пускаем, а нам мужской голос: «Откройте! Ах вы так?! Ну я вас сейчас всех
поубиваю!» И он полез в подворотню к нам. Голова прошла, пролез до груди. В
руках у него был пистолет, думаю, что ракетница, точно не помню. У нас ужас,
но мы держим. А потом он застрял! Когда он застрял, ему пришлось положить
пистолет на землю, чтобы обратно вылезти. Петька сразу же бросил меня,
бросил держать калитку, схватил пистолет и убежал во внутрь двора. А я
продолжала держать дверь, пока не пришел какой-то мужчина и не сказал мне
прекращать это дело. А тот мужик, когда вылез обратно, перешёл на другую
сторону улицы и пошёл. Потом его там схватили и заставили с другого двора
пускать зеленые ракеты. К тому времени уже слышался гул бомбардировщиков,
пора было давать сигнал. В итоге у бомбардировщика был перелёт нашего
завода Кулакова, и он разбомбил пустой жилой дом. Из того дома всех людей к
нам переселили. Правда, одна старая бабуля не захотела съезжать со своей
квартиры. Думаю, что она там и погибла под завалами.
А потом ещё бомбили зоопарк, так там такой стон стоял, так орали звери,
что ужас просто. Мы боялись, что львы побегут, а змеи поползут. В итоге только
одна змейка поползла, а мы закричали и побежали домой.
Мой папа умер зимой в начале февраля 1942 года. Он умер от голода.
Пока он работал и получал свои 250 грамм хлеба, он постоянно делился им с
нами. Похоронить мы его сразу не смогли, мама завернула его в половик и
оставила дома лежать. Пролежал он так дней десять, мы все ждали, пока дядя
Валя на своём обозе его заберёт. Мама у меня сама-то еле-еле ходила, а тащить
ещё кого-то уж точно не могла, да и с работы не отпускали. Дядя Валя довезти
его тоже не смог, оставил около театра Ленинского комсомола, сейчас там
«Мюзик-Холл». Он его бросил в ручеёк, что там был, туда всех кидали, там
лежало много покойников, очень много. Потом там появилась надпись, что
трупы не надо здесь оставлять.
Когда папа ушёл из жизни, я стала частенько ходить к маме в
поликлинику, кушать хотелось. У меня была иждивенческая карточка на 125
грамм хлеба. Папы нет, я уже сама себе хозяйка. Надевала варежки, затем в одну
варежку брала деньги, а в другую карточку. Однажды, пошла за хлебом
дворами. Снега было по колено. Пошла через проходную, а там я никогда не
ходила, поэтому мне было страшно. Вдруг кто-то вышел из парадной, это был
высокий мужчина. Он оглянулся на меня, понял, что я иду за ним и пошёл
прямо. Мне стало спокойнее. Он вышел на проспект, дошёл до ворот, а я иду за
ним. Потом он захотел помочь мне, руку подал. Я сама перешагнула, руку не
дала. Он лишь меня за локоть придерживал. А за мной девушка шла. И, когда
мы перешли порожек, он вдруг повернулся ко мне и стал просить помощи. А
девушка его чуть-чуть подтолкнула, когда мимо проходила, и он упал и снова
стал просить помощи, чтобы ему руку дали. Я подала ему свою руку, потянула
его, он тоже попытался потянуться, но в итоге у меня лишь варежка сползла и
осталась у него в руках вместе с карточкой. И тут девушка мне кричит: «Что ты
делаешь?! Что ты делаешь?! Вы сейчас оба свалитесь, а вас потом и не
поднимешь. Не смей его поднимать!» Я отпрянула, но сразу и не сообразила, что
у меня варежки теперь нет. Рядом уже находилась булочная. Девушка всех
отодвинула, прошла без очереди и протащила меня за руку ближе к хлебу. Там
она говорит: «Вот ей первой дайте». Потом ко мне поворачивается, мол давай
сюда карточку. А я стою, карточки у меня и нет, как и варежки. Она меня к
стенке прижала и пошла на улицу. А я стою и не знаю, что делать. Продавщица
пожалела меня и отрезала мне кусочек хлеба, я его беру и в руке держу. Спустя
время приходит та девушка и говорит: «Ты счастливая, я нашла твои варежку и
карточку». Вот и отрезали мне потом хлеба.
Вообще, очереди за хлебом были ужасно большие, людей было много,
стояли все долго. Некоторые булочные закрывались, тогда народу в других ещё
больше становилось. Помню, как ходила первый раз в магазин за маслом. Я
взяла карточку, мне по этой карточке дали много масла. Потом оказалось, что
надо было брать талон на карточку, иначе тебе не вернут её. Папа ходил
ругаться в магазин, но карточку нам так и не вернули.
Иногда я на рынок ходила, покупала там дуранду, это шкурки, которые
остаются после выжима подсолнечного масла. Ещё на рынке можно было
купить рыбью чешую.
Взять меня на работу не могли, мне было ещё только 13 лет было, а брали
с 14. Но главврач подкидывала мне мелкую работу, то даст тряпку, чтобы я
протёрла что-нибудь, то просила карточки принести. А я эти карточки
постоянно путала, меня потом все мамаши в округе ругали и на меня
пожаловались. Главврач решила поставить меня в регистратуру, чтобы я
находила карточки. Но и тут у меня проблемы возникли — стоило мне начать
крутить барабан, чтобы найти нужную улицу, как я уже лежала на полу. И снова
крик на всю регистратуру: «Она лежит! Она лежит!» А я не могла иначе, голова
сильно от этого кружилась. После таких случаев меня послали снег на улице
убирать. А там надо было буржуйку топить еще. А я же не умею. То трубу
забуду открыть, то дрова не так положу. Так что и тут я не справилась.
До меня снег дворник убирал. Он себе во дворе могилу вырыл, а такую
глубокую, что аж по лестнице туда спускался. Он никому не говорил для чего
она. Сказал, что мусор туда скоро будут бросать. Только потом он сказал, чтобы
его здесь и похоронили под деревом.
Однажды на кухню привезли суп дрожжевой. Я стояла со всеми в очереди
как работник. Подала свою карточку, и тут вдруг закрыли окошко. Что такое?
Что случилось? Оказалось, что женщина, которая разливала нам суп, умерла
прямо в процессе. Карточку мне потом вернули, но я осталась в тот день без
супа. Главврач решила сделать так, чтобы я спала прям на работе, а не ходила
туда-сюда. Мне выделили место, там я и спала на подушке. Моя мама тоже
спала на работе, но у себя в кабинете.
Ещё меня от поликлиники посылали за хлебом. Мне сделали специальную
справку, по которой мне должны были давать булку. Два раза я честно принесла
хлеб, ни кусочка не откусила. А когда на третий раз пошла, то хлеба мне уже не
дали, хоть справку и забрали. В тот день было много ребят в очереди, все они
друг друга знали, были с соседних домов. Они мне тогда сказали: «У нас тут уже
все распределено, тебе хлеба мы не дадим, иди на Барочную, там этот хлеб
выпекают, попроси, чтобы тебе открыли и пустили в отдел кадров». В
следующий раз я туда и пошла. Дошла до ворот с дыркой. Мне говорили, чтобы
я туда руку просунула, я так и сделала. У меня сразу сняли варежку, я давай
плакать, просить, чтобы её вернули. Варежку мне обратно вышвырнули. Я стала
просить, чтобы меня пустили в отдел кадров, чтобы на работу записаться. А мне
закричали: «Какая работа?! Какой отдел кадров?! Иди отсюда, сейчас хлеб
вывозить будут! А ты тут как разбойница ходить будешь?!» Я сказала, что не
буду и останусь, подожду. Тогда мне сказали, что стрелять будут и просунули в
эту дырку ружье. Я сразу же отошла. А она взяла и реально выстрелила. Ну, я и
побежала обратно в поликлинику. А те ребята кучкой рядом стояли и кричали
мне: «Беги змейкой! Беги, чтобы она не попала в тебя! Не бойся! Патроны не
заряжены!» А я вдоль стеночки бежала, чтобы точно не попали в меня.
С 5 мая возобновляла свою работу школа. Всем детям надо было начать
ходить. Главврач мне сказала, чтобы я шла в школу. Она меня и так всю зиму
тянула, даже подкармливала хлебом порой за мою мелкую работу. Хотя
официально работать меня так и не устроили, потому что пулю получать никто
не хотел.
И вот я 5 мая 1942 года пошла в школу. Пришла, вошла в дверь, пошла по
лестнице. Поднялась на пятый этаж. А там в рекреации стояли койки, и лежали
больные, ну я туда и попала. Меня сразу же увели оттуда. Я снова пошла искать
школу. Вышла на черную лестницу, а там лифт не ходил. Ну я пешком вниз
пошла, а на лестнице там был настоящий ужас. Руки валялись, ноги валялись,
головы, тела… Но тогда мне страшно не было почему-то, я продолжила
спускаться вниз. Дошла до первого этажа. Слышу, что кричат, ищут меня. А
обратно выйти у меня не получается, все двери закрыты, пришлось подниматься
обратно наверх. Вся лестница была завалена трупами и частями тела. В
конечном итоге, меня выпустили, дали мне хорошего пинка и выгнали на улицу.
Больше туда я не ходила. Меня потом еще дети расспрашивали, что же я там
видела.
Во время войны мы в школе рукавицы вышивали для фронта. На них мы
подписывали свои ФИО. Вот таким хорошим делом занимались.
Ещё мы работали в Пулково, на хозяйстве одном. Там мы спали, там мы и
питались. Я работала на прополке. У хозяина этой земли был сын. Он узнал, что
у меня немецкие корни и стал приезжать в высоких немецких грубых сапогах.
Приказывал мне остаться после работы, а он же председатель отряда, поэтому я
не могла уйти. Потом приказывал мне сесть на коленки на грядку, а затем бил
меня по ногам этими сапогами. Ещё заставлял меня есть ложками землю.
17 июля 1942 года за мной приехала мама. Мы вернулись домой,
вымылись и собрали вещи. Наш сосед дядя Ваня ездил несколько раз шофёром
через Ладогу и все разы благополучно. А шубу брал у моего отца, за что нам
был очень благодарен. И вот он все наши вещи и отвёз на вокзал. Но где-то
разбомбили железную дорогу, поэтому поезда не ездили. Обратно вернуться мы
не могли, и чтобы как-то выжить, начали продавать вещи, которые у нас были.
Потом мама начала шить. И только 2 августа мы поехали. Едем-едем, вдруг
поезд затормозил, что-то случилось. Моя мама сразу выкинула швейную
машинку, да хотела уже и сама с поезда прыгать. Но оказалось, что это были
лишь учения, так как наш поезд первый. Бедная проводница, как она эту
тяжелую швейную машинку обратно затаскивала, я не понимаю. Я сама-то не
могла залезть нормально, тяжело было, а тут ещё и машинка. Но мы поехали.
Довезли нас до Ладоги, там погрузили в машины и повезли вдоль берега. Потом
мы пересели на корабли и всех детей в трюм поместили, так как над нами
постоянно кружили где-то самолёты. Я была с зелёным нашим чемоданом, так и
уснула на нём. Как только мы приплыли, все сразу и сошли на берег, а я спать
продолжала. Мама на берегу давай кричать и искать меня. А меня нет. Девушки
давай искать меня в трюме, кое-как нашли. Меня сложно было заметить, я спала
под лестницей на чемодане. Корабль уже отплывать должен был, пока немцев
нет. Ну он взял и отплыл от причала. Меня на палубу вытащили и стали кричать,
чтобы я прыгала. А я стою, ничего не понимаю. Так меня взяли и столкнули в
воду, не обратно же везти. Там меня уже вытащили, погода была хорошая, так
что мне повезло. Потом меня мама в сухое переодела.
На этом берегу нас всех накормили, но давали понемножку, переедать
нельзя было. А за кустами мальчишка ходил, пузо огромное, аж кишки
просвечивают, у него всё внутри раздулось. Он ходил и просил еды, ему всё не
хватало. Неизлечим уже был. Так его увели в лесок, да там и застрелили. Все
этот выстрел слышали.
Потом людей назначили по деревням. Нас посадили в телегу, и мы 40 км
тащились до деревни Усть-Сосново. Квартиру нам не дали, а поселили в
комнату, которую у детдомовцев забрали, вместе с другой семьёй. Я начала
ходить в школу, снова в четвёртый класс. Учительница всё жаловалась, что,
когда я прихожу, все дети на меня смотрят — я же с Ленинграда. Потом я
ходила и воровала дрова, топить-то надо было чем-то. Там меня подкараулили и
отругали, хотели ещё наказать, но вступились взрослые. После этого случая нам
пришлось ходить в лес и рубить деревья. Хотя рубить сначала нам нечем было,
мы только ломали кусты. Но потом всё-таки приобрели топорик.
Помню, что нас пригласила к себе крёстная, сказала, чтобы мы приезжали
к ней в Барнаул. Но мы отправились в Семипалатинск. Там я уже училась
нормально, правда, по русскому была двойка, по казахскому тоже двойка, зато
по военному делу пятёрка, я очень хорошо стреляла! Там я получила свой
паспорт. Помню, как в отделе думали, отправлять нас в немецкое поселение или
нет. В итоге записали нас как русских.
Ко Дню Победы мы поехали в Ленинград, так совпало. Но нас там целую
неделю не выпускали из поезда. Говорят, что город подчищали. Потом я сразу
на работу пошла. А затем поступила в институт.
#ДетиВОВ #Труд #БлокадныйХлеб
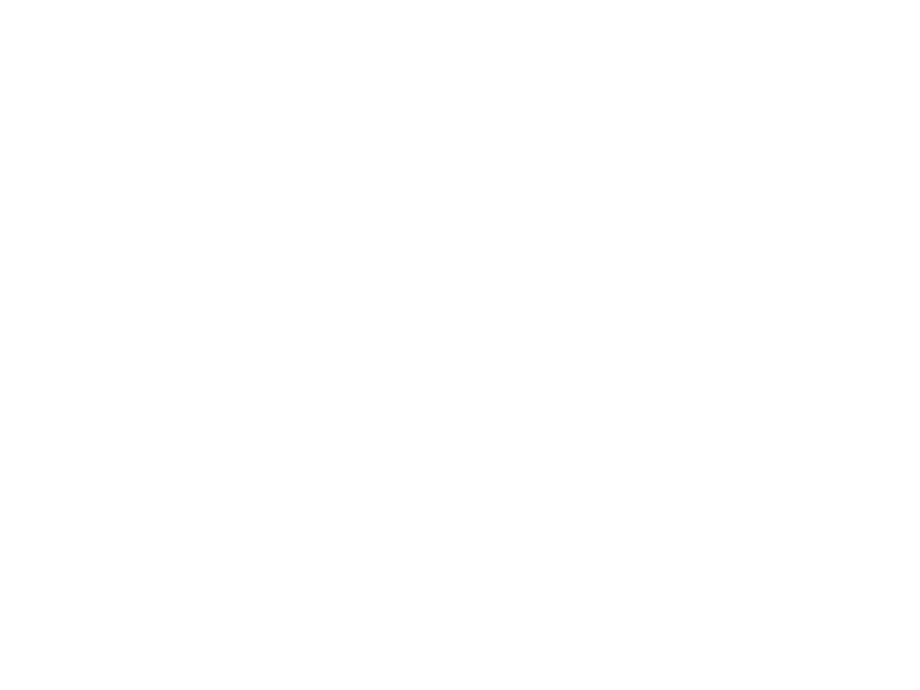
Джуржа Василий Павлович
Отечественной войны, член-корреспондент ПАНИ. Житель города Пушкин с 1964 года.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», а в 2016 году и в 2017 году — орденскими
знаками «За верность Отечеству» и «За заслуги перед Отечеством».
Джуржа Василий Павлович родился 14 января 1921 года, в селе Верхнячка,
Христиновского района Черкасской области. Всю Великую Отечественную войну он
прошёл на Краснознамённом Балтийском Флоте. Встретил её матросом на морской
зенитной батарее в г. Палдиски (Эстония), а закончил старшим лейтенантом, помощником
начальника политотдела Учебного отряда в Кронштадте.
Яркими воспоминаниями военных лет остались многие эпизоды. Некоторыми из
них Василий Павлович поделился:
«Утро 22 июня 1941 года батарея встретила огнем по девяти бомбардировщикам,
направлявшимся с нашей территории в сторону Финского залива. К счастью, всё
обошлось: «противнику» вреда не причинили. Вскоре выяснилось, что стреляли по своим
самолётам «СБ», шедшим бомбить фашистские корабли. Оповещения об этом не
поступало, а силуэты самолётов тогда знали плохо. Однако война быстро всех и всему
научила. Буквально через две недели каждый зенитчик по звуку мог отличить немецкий
самолёт-разведчик от бомбардировщика, да и взаимодействие авиации с артиллерией
наладили быстро.
На всю жизнь запомнился Таллинский переход нашего КБФ в Кронштадт 28–30
августа 1941 года. Известно, что он до сих пор является одной из незаживающих ран
Великой Отечественной войны, которых было немало, особенно, в начальный её период.
Самым больным вопросом, страшной трагедией эвакуации войск из Таллина, являлись
огромные потери людей, боевых кораблей, транспортного флота. По официальным
данным, на переходе из 127 боевых кораблей погибло 15, в том числе пять эскадренных
миноносцев, две подводные лодки, сторожевой и торпедный катера. Но особо большие
потери понёс гражданский флот. Из 67 транспортных и вспомогательных судов погибло
34, то есть каждый второй. На затонувших кораблях находилось 17 тысяч человек: из них
около пяти тысяч погибли, иначе говоря, это почти каждый третий.
В Таллинском переходе боевые и транспортные корабли с личным составом, с
живыми защитниками Отечества взрывались на минах, гибли от бомб фашистских
пикировщиков, от торпед, выпущенных в упор фашистскими субмаринами.
Вот как я ощутил это на себе, что увидел своими глазами, и что навсегда осталось в
памяти из всего произошедшего — это транспорт «Балхаш», потопленный вражеской
подлодкой. В первой половине дня 28 августа 1941 года на транспорт был посажен
гарнизон города Палдиски, состоявший из отдельного зенитного артиллерийского
дивизиона, морской дальнобойной береговой батареи, частей пехоты и подразделений
тыла. Отдельно на баржу были погружены двенадцать зенитных артиллерийских
установок, приборы управления огнем, боеприпасы и всё военное имущество. Кроме
транспорта и баржи, в наш небольшой отряд еще входили: два морских охотника, пять
катеров-тральщиков и три шхуны. Первый пункт назначения — Таллинский рейд. Пока до
него добрались, произошло два небольших происшествия. Уже при выходе из бухты
Палдиски перегруженная баржа стала тонуть. Попытки спасти её закончились неудачей.
Пришлось принести первую жертву Нептуну. Что и говорить, примета оказалась далеко
не приятной, но тогда в приметы мало кто верил. Вторым происшествием стало
«знакомство» с пикировщиком «Ю-87». Вынырнув из-за облаков (в то время шёл
моросящий дождь), он с диким воем сбросил на транспорт свой бомбовый груз. К
счастью, «подарки» пролетели мимо. Такой же беспорядочной была и стрельба по
фашистскому стервятнику со всех имевшихся у нас стволов, в том числе и из винтовок.
С опозданием, примерно к 17 часам, мы прибыли на Таллинский рейд, а вскоре
начался и переход в Кронштадт. Для «Балхаша», как и для многих других судов, он
оказался роковым. Примерно через полтора-два часа произошло следующее. Поскольку я
находился на верхней палубе в числе стрелков-зенитчиков, которые по команде при
воздушном налёте должны были открыть огонь из винтовок с капитанского мостика, то
многое из того, что происходило вокруг, видел и слышал. Отдельные моменты настолько
хорошо врезались в память, что спустя почти 80 лет, возникают перед глазами и сегодня,
как живые. Так, с «Балхаша» было видно, как вспыхнуло пламя и раздался взрыв на
идущем впереди транспорте, который стал быстро тонуть. Через какие-то минуты мы
услышали доклад своего сигнальщика: «Справа по борту перископ подводной лодки!»
Прошло мгновенье, и последовал удар, потрясший «Балхаш», а за ним — взрыв, после
которого транспорт развалился на две части и стал тонуть, образуя страшную
всасывающую воронку. Она безжалостно поглощала всё на своем пути, а главное, живых
людей, ещё видевших белый свет, но уже с трудом понимавших, что с ними происходит.
Был невообразимый хаос на палубе: всё, что могло скатываться и валиться, сыпалось
сверху вниз, а люди хватались и друг за друга, и за всё, что можно было схватить в
надежде спастись. О тех, кто находился в трюмах (вечная им память — их там было
большинство), и подумать страшно — все они оказались в братской могиле на дне седой
Балтики, а их родные получили впоследствии страшное жуткое казённое сообщение:
«Погиб безвестно».
Остался я в живых лишь потому, что находился недалеко от борта, успел в
считанные секунды сбросить с себя шинель и вместе с другими прыгнуть в воду на каком-
то расстоянии от воронки, что позволило отплыть в сторону от уходившего на морское
дно транспорта. Сколько пробыл в воде, сказать трудно. Запомнились некоторые детали.
Когда подошёл ко мне катер и матросы подали крюк, я увидел у себя под мышкой
обломок доски, который помогал держаться на плаву. Не забыл я и то, что, оказавшись на
катере, устоять на ногах не смог и упал на палубу, как подкошенный. Вскоре с катера был
пересажен на портовый буксир «Тусуля», до краёв забитый бойцами из Таллинского
гарнизона. Поставленные в беспомощные условия, лишённые возможности активных
действий, мы проявляли растерянность. Например, при виде свистящих бомб прямо над
головой, сброшенных немецким пикировщиком, отдельные солдаты выпрыгивали в воду,
надеясь таким образом спастись, хотя фашистский «груз» предназначался не для малых, а
для больших судов. Увидев полоску земли, солдаты заставили капитана буксира
повернуть к ней. В силу этого происшествия пришлось ещё несколько дней пробыть на
острове Гогланд, прежде чем я оказался в Кронштадте.
Говоря о наших страшных жертвах в годы Великой Отечественной войны, нельзя
не сказать, что за 900 дней блокады Ленинграда только от голода и холода погибли 641
тысяча 803 жителя. Поскольку блокаду пришлось пережить самому, расскажу о ней
некоторыми конкретными примерами.
С января по октябрь 1942 года я учился в Ленинградском военно-морском
политическом училище. В блокаду и военные не были сытыми. Солдаты и матросы
получали по 300 граммов хлеба и горячую пищу три раза в день — не ахти какую
калорийную, но всё же съедобную, потому и могли выполнять боевые задачи. В зимнее
время на занятиях по тактике мы, курсанты, ползали на лыжах, минуя Охтинское
кладбище. Оно осталось в памяти полем после кровавой битвы: часть людских трупов,
сложенных штабелями, лежала в одном месте, другие — по разным местам,
припорошенные снегом. Захоронить погибших по-людски у родственников или соседей,
остававшихся в живых, не хватало сил. С наступлением тепла кладбища Ленинграда
заполнялись братскими могилами. Несмотря на все невзгоды, ленинградцы не сдались,
они жили, боролись и отстояли свой город. При этом помогали фронту всем, чем могли.
Весной ленинградцы спасались огородами. Раскопали участок и в нашем училище.
А запомнилось это, потому что несколько курсантов за «воровство» брюквы были
отчислены из училища и с позором отправлены в части. Когда же блокада частично была
снята, летом 1943 года, в Ленинград из Западной Сибири, небольшого городка Тары,
расположенного на крутом берегу Енисея, был возвращён личный состав военно-морского
подготовительного училища подводного плавания (около 300 человек) для того, чтобы
готовить необходимые кадры для ВМФ. Поскольку я выполнял задание по этому
перебазированию (на него ушло около месяца), то мог наблюдать, с какой радостью
подростки возвращались из эвакуации, желая скорее попасть на флот, чтобы воевать с
ненавистным врагом.
В Вооружённых силах нашей страны военнослужащие не выбирают себе роды
войск и место службы, а выполняют свой ратный долг там, куда пошлёт Родина.
Случилось так, что в годы войны я был комсомольским работником в артиллерийских
частях: комсоргом дивизиона 2-го гвардейского зенитного полка, прикрывавшего
аэродром с нашими штурмовиками «ИЛ-2» — он располагался на Ораниенбаумском
«пятачке», у деревни Борки; затем — старшим инструктором по комсомолу политотдела
Кронштадтского сектора береговой обороны; далее — в политотделе Кронштадтского
учебного отряда, в котором к концу войны насчитывалось более трёх тысяч
комсомольцев.
В штыковые атаки эти воинские части не поднимались, но каждая выполняла свой долг
добросовестно, самоотверженно и до конца. Работники политотделов в военное время
бумажной писаниной не занимались, обширных донесений вышестоящему начальству о
высоком морально-политическом состоянии личного состава не сочиняли (как это было
до и после войны), а находились вместе с ним на боевых позициях, воодушевляя бойцов
на ратные дела. И, можно сказать, делалось это вполне успешно. Так, наши штурмовики с
аэродрома в Борках бесперебойно и беспрепятственно вылетали на боевые задания,
опираясь на надежную защиту зенитчиков. За всё лето 1943 года фашисты лишь один раз
осмелились осуществить налёт на позиции пилотов и артиллеристов, потеряв при этом
один «Ю-87». Незначительные потери от сумбурного бомбометания имелись и на нашей
стороне. Шальная бомба залетела в орудийный дворик. Один человек погиб, двое были
ранены.
В 1944 году, накануне операции по полному снятию блокады Ленинграда, я
возглавлял делегацию моряков-артиллеристов от Кронштадтского сектора береговой
обороны к нашим воинам-пехотинцам на передовой реки Воронка. За недели моряки
встретились с сотнями солдат и могли убедиться в силе их боевого духа и веры, увидеть
боевую дружбу различных родов войск. Наши рассказы о том, какой силой огня
дальнобойной береговой и корабельной артиллерии будет поддержано наступление
пехоты, встречались с большим воодушевлением и надеждой на общий успех операции,
что и было подтверждено на деле. Поражали боевые будни солдат-пехотинцев: хозяйски
обжитые землянки, оборудование окопов, ходов сообщения. Все опасные места надёжно
страховали бойцов от пуль немецких снайперов. Воевать наши солдаты научились. Их
победа над врагом стала вполне закономерной и заслуженной и на века возымела
благодарность от потомков.
Василий Павлович в строю находился 58 лет, из них: 35 календарных (1939–1974
гг.) и 23 — в должности доцента, профессора кафедры в Ленинградском высшем военно-
морском инженерном училище, ныне — Военно-морском политехническом институте
(1974–1997 гг.). Он стал автором шести исторических очерков «Почему в богатой России
народ бедный» (2005 г.), «Россия — неколенопреклонная» (2009 г., переиздана в 2012 г.),
«Власть и народ в судьбах России» (2010 г.), «Россия. Тернистый путь к демократии»
(2013 г.), «Россия», 2016 г., «На волне моей памяти», 2017 г. Он женат, у него есть сын.
#БоеваяДружба #БоевоеРанение #МорскойФлот
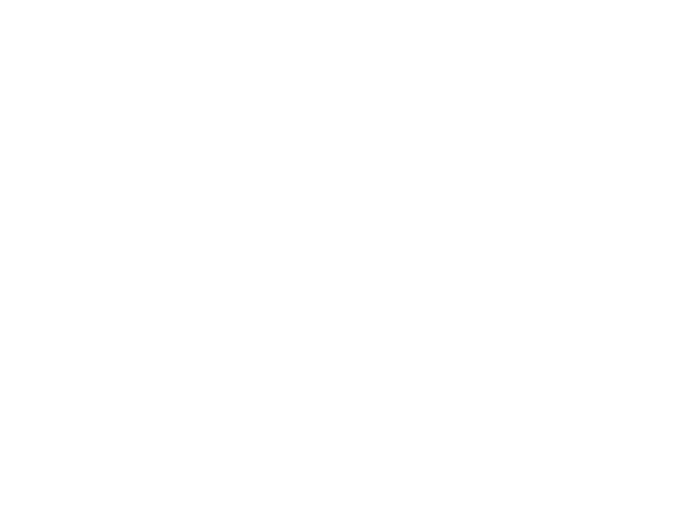
Мы подруги, — улыбается Маргарита Михайловна Степанова Лилии Васильевне Сергеевой. — А вообще мы почти как сёстры — родились в один год — 1936, блокаду пережили тоже в одном месте — на Петроградской стороне.
Маргарита Михайловна Степанова (в девичестве Якимова) — жительница блокадного Ленинграда, активист общества жителей блокадного Ленинграда Пушкинского района. Маргарита Михайловна элегантно выглядит — на интервью она выбрала бирюзовый пиджак и небрежно отмахивается от комплиментов. Эта женщина ведет активный образ жизни и старается посещать все мероприятия, быть в курсе событий. Несмотря на все испытания, она улыбается светлой, даже немного детской улыбкой и спустя прошедшие десятилетия, трепетно хранит память о своих родных и большую им благодарность.
Маргарита Михайловна вместе с семьей до войны жила в Колпино. Мама и папа работали на Ижорском заводе. Дедушка с тётей Маргариты и её двоюродным братом жили в Красном Бору. После того как началась война, бабушка решила навестить деда и дочь и уехала. Родители же решили поехать в другой день, выходной. Когда они пришли на вокзал, узнали, что Красный Бор заняли немцы, и семья осталась в Колпино. Папа, Михаил Иванович Якимов, был 1899 года рождения, поэтому его не призвали в армию по возрасту. Родители продолжали работать на заводе. Папа служил в МПВО. Маленькая Рита ходила в детский сад. Почему-то начальство Ижорского завода перевело детский сад на Петроградскую сторону, на улицу Чапаева. Одну из сестёр Маргариты, Тамару, взяли туда помощницей. Так получилось, что это расставание с родителями растянулось на год. Детей остригали наголо, но зато их кормили. Давали гречневую кашу «размазню» с шелухой — она царапала горло, но это было настоящая еда. Рядом была ткацкая фабрика — там делали нитки. Когда начиналась воздушная тревога, детей одевали и вели в бомбоубежище при фабрике. Однажды здание фабрики загорелось, и пришлось выбивать окна бомбоубежища, чтобы выйти. Везде летала вата, дети были напуганы. Самые любимые и дорогие слова были «отбой воздушной тревоги».
Зима 1941—1942 годов стала самой страшной. «Детей отправляли гулять на улицу. Мы стояли как столбики, не бегали и не шалили. Мимо нас провозили машины с покойниками. Мы бубнили, как маленькие старички, — и тут голос Маргариты Михайловны начинает дрожать, — возвращаясь в детский сад, мы говорили: «Вчера было три машины, а сегодня было пять машин…»». Сестра Тамара, которая продолжала работать, от голода опухла. Как-то она с нянечкой пошла на реку Карповку за водой, где произошёл страшный случай: какой-то мужчина погнался за ней — она только чудом спаслась. Время было тяжёлое, но воспитатели старались поддерживать ребят: вместе пели песни, организовывали игры. Радио не выключалось всю блокаду. Диктор Мария Григорьевна Петрова читала сказки, и маленькая Маргарита вместе с остальными детьми садилась в круг и слушала.
Не то в мае, не то в июне мама, Варвара Лаврентьевна, героически пришла пешком из Колпино на Петроградскую сторону и принесла травяные лепёшки — из лебеды, крапивы и подорожника, поджаренные на машинном масле. Девочка посмотрела на них и решила, что они страшные и плохо пахнут. Сестра Тамара сказала, что это пирожные, и тогда Рита всё-таки съела их. От встречи была большая радость. Мама сказала: «Скоро вас заберём, завод будут эвакуировать». Сама мама работала охранником ВОХР (военизированная охрана — прим. ред.) – в её обязанности входило проверять документы у рабочих и пропускать их на завод. Она позднее рассказывала дочери: «Я очень ослабела. Вот прошёл бы мимо меня диверсант — ткнул бы в живот, а я бы ничего не смогла сделать».
Ижорский завод эвакуировал работников и оборудование. В Борисовой Гриве пришлось сидеть долго, но дети были очень довольны. Потом на баржах люди плыли через Ладожское озеро вместе со станками. То слева, то справа их обливало водой от снарядов. На «большой земле» выдали пайки — каждой семье по буханке хлеба, кусок шоколада, сырокопченой колбасы. Маргарита даже и не помнила её вкуса до войны. Мама спрятала еду и выдавала немного, по частям. Сестра жаловалась: «Дай, мамка, жадина». А мама расстраивалась, но держалась и объясняла, что так много есть нельзя, тем самым, спасла семью от смерти. Многие умирали, потому что при дистрофии нельзя было сразу набрасываться на большие порции.
22 дня семья ехала до Барнаула — пропускали составы с оборудованием, санитарные поезда. «Я голову не держала, — так и думали, что буду кривошеей, — вспоминает Маргарита Михайловна, — дети были слабые, как маленькие старички. Одна девочка всё просила супа, другая вскрикивала: «Надо, надо, хлеба надо»». Барнаул казался земным раем, несмотря на морозы. Там можно было жить, в отличие от голодного Ленинграда. «Мои родители родом из Белоруссии, перебрались в Ленинград во время голода. Они хорошо знали лес и природу. — говорила Маргарита Михайловна, — Выглядела я страшно — кожа вся в болячках, слабенькая. Родители собирали облепиху, и она по сути меня спасла». Запомнился необыкновенный вкус мороженого лука — местные научили класть лук в снег.
Им встретилось много хороших людей. Однако была и ложка дёгтя: хозяйка дома, где они жили, после ухода взрослых рылась в вещах и даже что-то забирала себе. Мама, Варвара Лаврентьевна, советовала Рите с ней не связываться и говорила, что пусть та забирает, что нужно, а они ещё наживут.
Работники Ижорского завода научили местных жителей выпускать снаряды. Праздником стало известие о прорыве блокады. Все обнимались, плакали, целовались. Потом снова был праздник, ещё больший — сняли блокаду, после чего семья снова вернулась в Ленинград.
Колпино всё было разбито, потому что остановило немцев. Вернувшаяся тётя, которая в начале войны оказалась в оккупированном Красном Бору и была угнана немцами, рассказывала, что бабушка Маргариты стояла на горе и горько восклицала, видя пожар: «Колпино горит». Дом Якимовых уцелел, но в комнате поселилась семья погибшего красноармейца, которая поступила порядочно и отдала вещи. Семье Маргариты Михайловны предложили поселиться в Саблино. Там были свободные дома, так как всех жителей угнали в Германию. Папа отремонтировал домик, и 2 года они жили в нём. В Саблино раньше снимали дачи, поэтому осталось много хороших книг. Сестры Маргариты находили и приносили их. «Я помню, горят дрова в печке. Сестра читает очень выразительно книгу «Овод»: «Падре, падре», — посмеивается Маргарита Михайловна, — А я реву, не остановиться. Мама говорит: «Ты не очень реви, а то дрова потухнут».
Девочку не выпускали из дома. Немцы перед отступлением заминировали много игрушек — кукол, грузовички, из-за чего потом немало малышей пострадали.
В сентябре 1944 года Рита пошла в школу. Помнит, что носила галоши, подвязанные бантиком — другой обуви не было. Несмотря на бедность, мама доставала вещи: обменивала на барахолке на Обводном, а сёстры донашивали одежду друг за другом. А ещё мама шила для Риты чудесных тряпичных кукол.
Помнит она и радость Дня Победы. В честь праздника выдали хлеб, политый постным маслом, и с вдавленной конфетой-подушечкой — уже позднее специально для съёмок на телеканале Маргарита Михайловна приготовила такой же кусочек хлеба.
В 1946 году семье дали комнату в Колпино в домах, которые восстанавливали пленные немцы. Сначала спали вповалку, потом потихоньку обжились. Хотя во время войны все говорили: «После Победы только есть будем, покупать ничего не будем». Дети тоже помогали восстанавливать дома, несмотря на свой возраст: «Мы встаём верёвочкой, берём по кирпичу и так разбираем развалины со взрослыми». Здесь же Маргарита встретила пленных немцев и отмечает, что они работали на совесть. Мама, добрая душа, отваривала ведро картошки и ставила его на улице, так немцы жадно накидывались на еду. «Я учила немецкий язык в школе. Листаю учебник. Вдруг проходящий мимо меня немец бросается ко мне, достаёт фотографию своей семьи и радостно показывает: «Meine Frau, Kinder!» Ненависти не было, — убеждённо говорила Маргарита Михайловна, — не все же из них зверствовали, военнообязанные же».
«Я сейчас плакать буду, как из-за всех военных событий сложилась жизнь моей сестры Тамары», — до сих пор переживает Маргарита Михайловна. Средняя сестра, Тамара, родилась в 1929 году, училась до войны в Вагановском училище — окончила 5 классов на одни «пятёрки» вместе с известной впоследствии балериной Нелли Кургапкиной. Её ждало большое будущее в театре. Но когда началась война, никто не заглядывал в почтовый ящик. А когда позднее его открыли, оказалось, что там был вызов срочно явиться на сборы, поскольку училище эвакуировали в Пермь. Тамара осталась в блокадном городе и пошла работать в детский сад. Потом в Барнауле устроилась в ФЗУ и шила валенки для солдат. В 1946 году Тамару снова взяли в Вагановское училище, но из-за пропущенных лет ей пришлось вернуться в 5 класс к девочкам намного младше. Они называли её «коровой», потому что она была уже взрослой, развитой девушкой. Тамара не выдержала этих разговоров и бросила училище. Девушка устроилась на Ижорский завод машинистом башенного крана, но творчество осталось с ней на всю жизнь. Она плясала в заводском ансамбле «Ижорочка», потом пела в самодеятельности. А старшая сестра Аделаида, как и родители, всю жизнь работала на Ижорском заводе в главном отделе, а начинала как ученик электромонтёра.
Маргарита Михайловна же после школы пошла на радиозавод работать – ездила в район Нарвской на паровике из Колпино, потом на трамвае. Работала в плановом отделе и окончила вечернее отделение нынешнего Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вышла замуж за военного, с которым живёт долгие годы душа в душу. Знакомство вышло случайно — курсантов его училища отправляли на завод, где работала Маргарита Михайловна.
Много где побывала, например, долгое время жила во Владивостоке на месте первой службы мужа. Долгие годы Маргарита Михайловна работает в Обществе жителей блокадного Ленинграда, помогает другим блокадникам своего района. Она ведёт активную общественную работу в школах и с улыбкой вспоминает наивный вопрос одного мальчика: «Почему вы не ели чипсы?» Недавно Маргарита Михайловна была на открытии памятнику шофёрам «Дороги жизни». А поэт Александр Городницкий подписал ей книгу с таким предисловием: «Сестре по блокаде». Она мечтает, чтобы появился памятник и блокадной матери — ведь благодаря их подвигу выживали дети в осаждённом Ленинграде. Это и подвиг её мамы, Варвары Лаврентьевны, ослабевшей женщины, которая дошла пешком из Колпино на Петроградскую сторону вместе с «пирожными» из подорожника и лебеды для своих дочек.
Лилия Васильевна Сергеева — жительница блокадного Ленинграда, активный член общества жителей блокадного Ленинграда Пушкинского района. Эта невысокая, но подтянутая женщина со звонким, молодым голосом гостеприимно встречает гостей на крыльце дома —, чтобы не заблудились. На её выглаженной блузке блестит знак жителя блокадного Ленинграда.
Лилия Васильевна Сергеева родилась в 1936 году, жила вместе с родителями, сестрой Розой, тётей и бабушкой в Пушкине. Маленькая Лиля помнит, как папа смастерил во дворе дома качели для своих девочек. Часто они ездили в Новгородскую область, в деревню Горицы, к бабушке и дедушке на лето. У них был дом, сад, корова Белянка и большой лохматый пёс Джульбарс. Начало войны маленькая Лиля тогда не осознала. Семья уехала из деревни обратно в Пушкин, а вскоре её заняли немецкие войска. После войны деревни Горицы больше не существовало: враг сжёг дома вместе с жителями, оставшиеся ушли в лес к партизанам. Об этом рассказала Лилии через много лет её тетя, которая осталась жить в землянке.
26 июня 1941 года отец ушёл на фронт, а вскоре остальная часть семьи перебралась в Ленинград, так как немецкие войска быстро занимали пригороды. Переехали они на Большой проспект Петроградской стороны. Лилия Васильевна видела из окна, как везли по улице дирижабли. Мама, бабушка и тётя уже не работали и получали иждивенческие карточки, по которым полагалось только 125 граммов хлеба. Лилия Васильевна вспоминает начало 1942 года со слезами на глазах. Тогда умерли и бабушка, Татьяна Ивановна, и тётя Валечка по прозвищу Кокочка — 19-летняя красавица, сестра мамы, — и всё страшной зимой, в январе-феврале. Девочки всё время лежали на кровати напротив мамы, укрытые бабушкиной лисьей дохой. Про этот период жизни Лилия Васильевна никогда не рассказывала и решила открыть тайну спустя много-много лет: «Мама собирала наши маленькие какашки, и мы это ели, не было другого выхода». Она решила это рассказать, чтобы новое поколение знало, на что шли родители, чтобы спасти своих детей.
А в ночь на 8 марта 1942 года скончалась и сама мама, Анастасия Ивановна, до конца отдававшая последнее своим дочкам. «Мы ночью услышали, как мама хрипит, — вспоминает со слезами Лилия Васильевна, — мы подумали, что ей нужно попить воды. Разбили лёд в ведре железной кружкой — отопления не было, вода замерзла. Подошли к ней. Мама перестала хрипеть и умерла». Девочек нашли в пустой квартире сандружинницы — они собирали осиротевших детей. Когда их вывели на улицу, сёстры увидели, что на южной стороне пробилась трава, и, как зайцы, бросились её есть.
Девочек отправили по разным детдомам: Розу эвакуировали в Ярославскую область, а Лиля из-за болезни попала в стационар. Лилия Михайловна помнит, как испугалась тогда восклицания врача в больнице: «Какой у неё налёт!», поскольку знала единственное значение этого слова — налёт фашистской авиации. После выписки её распределили в другой детский дом, из-за чего они с с сестрой расстались на много лет. По ошибке родственнице отца сказали, что Лиля умерла. Поэтому она написала письмо на фронт отцу Лили, что она, как и мама, погибла.
В сентябре 1942 года девочка поехала в Сибирь, Томскую область — их детдом эвакуировали через Ладожское озеро. Баржи обстреливали немецкие самолёты, часть из них затонули, но Лиля выжила. На протяжении месяца дети ехали в Сибирь. Многие из них не знали своих фамилий и имён, они были слишком маленькими, — поэтому им давали новые имена. После Томска всем предстояло плыть на барже до села Зырянского по реке Чулым. Дети так ослабели, что с баржи их местные жители, сибиряки, выносили на руках.
«Первая директор детского дома, Тамара Васильевна, не выдержала, — со слезами рассказывает Лилия Васильевна, — нас же было 120 детей разных возрастов, а обеспечения никакого не было. Она не знала, как нас кормить, поэтому бросилась в воду и покончила с собой». Новым директором стала Евгения Андреевна Мамонтова. Детей кормили гороховой кашей и гороховыми лепёшками, а ещё сухой картошкой — сухатом. Эту картошку было не разжевать, её можно было только сосать — для утоления голода. Был ещё в скромном рационе хлеб, поджаренный с маслом. 2-3 года ребята голодали. Дети учились в местной Зырянской школе. Пимов (это обувь, что-то вроде унтов) — на всех не хватало, поэтому бегали на улицу по очереди. А летом, в основном, ходили босиком — многие очень хотели обувь, поэтому шили тапки из тряпочек.
В детском доме было сложно, дети рано начинали работать – нужно было носить воду, мыть пол, топить печку, собирать на колхозных полях колоски, полоть репу и турнепс, рвать лён, ломать ветки для скота. Каждый день начинался с трудовой линейки, на которой каждому давали задания. «У меня хранится книга «Детские дома блокадного Ленинграда», — показывает Лилия Васильевна, — там есть трудовое расписание, сколько часов детям и в каком возрасте положено было работать».
Были и недобрые воспитатели, которые крепко обижали воспитанников. За обедом все дети выстраивались в ряд. Кто плохо подмёл пол — того выгоняли и лишали порции, кто получил двойку — его тоже выгоняли из очереди. Повариха Анна Михайловна, видела в окошко эту картину, а потом брала хлеб и кормила тех, кого лишили еды. Лилия Васильевна вспоминает и об отзывчивости детей: «У нас была Мария Ивановна Барышева, работала уборщицей и была как нянечка. Она тоже голодала, так мы съедали свой хлеб, а корочку ей отдавали».
«Идёт урок, а я думаю про себя: вот откроется дверь и войдёт мой фронтовик-отец. Такое было наивное детское впечатление», — мечтала маленькая Лиля. Однако отцу и дочери так и не суждено было увидеться — Василий Сергеевич Сергеев погиб в 1944 году при снятии блокады Ленинграда. Об этом девочка узнала позже. На память о нём остались две фотографии: в военной форме и из довоенной жизни, на природе. Однако дети, несмотря на горести, оставались детьми: играли в лапту и полузабытую игру «Штандер». Идея игры состояла в том, что один из игроков бросал мяч и кричал, например: «Лиля, штандер!» И Лиля должна была поймать мяч и запятнать другого игрока, который снова вступал в игру. Единственной игрушкой был зелёный танк. Потом появились чёрные мячики. Но девочки и сами себе шили кукол, Лиля умело пришивала ручки и делала глаза. Платье для куколки она сделала из тряпки, пропахшей бензином, которую кто-то оставил на берегу реки во время стирки белья. В тёплую погоду дети плавали в реке.
День Победы она помнит очень хорошо. По длинному коридору детдома бежала директор, Евгения Васильевна, и кричала: «Победа!»
В 14-15 лет подростков отправляли в ремесленные училища получать рабочие профессии, но Лилю, из-за слабого здоровья и хорошего отношения завуча, оставили окончить десятилетку. Девушка очень хотела вернуться в Ленинград, но никто не давал ни прописки, ни работы. С горечью она вспоминала фразу, характеризовавшую тогдашнее отношение к детдомовцам: «Деревенская вошь, куда ползёшь?». Она решила ехать в теплые края и доехала на поезде до Грузии, ведь тёплых вещей после выпуска из детдома у неё не было. Спать пришлось на улице, пока один мужчина не пожалел её, устроил на ночлег в тракторе и привёл на работу в санаторий в Цхалтубо. Лилия Васильевна начала работать официанткой, и её однажды перед входом в санаторий… обняла сама Любовь Орлова. Вначале девушка не узнала самую известную советскую актрису. Ангелами-хранителями стали для неё и отдыхавшие в санатории Николай Васильевич Киселёв, первый секретарь обкома Ростова-на-Дону, и его супруга Александра Григорьевна Киселёва. С их помощью Лиля получила направление в Ростовское техническое училище. Коллектив санатория собрал ей денег на билет. Николай Васильевич отнёсся с сочувствием к выпускнице детского дома, по-отечески опекал её и помог получить общежитие и работу на радиотехническом заводе. А когда девушка решила вернуться в Ленинград, он лично направил телеграмму в Смольный с просьбой о разрешении вопроса. Она работала в родном Пушкине на военном аэродроме радиомехаником на сверхзвуковых самолётах на аппаратуре «Свой-чужой». После выхода на пенсию Лилия Васильевна устроилась работать во ФСИН. За свою работу была награждена множеством грамот и благодарностей.
Жизнь разбросала бывших детдомовцев по стране: Ленинград, Литва, Астрахань, Иркутск, кто-то остался в Томске. Дети войны восстанавливали страну: строили фабрики, возделывали поля, возводили жилые дома, трудились в автомастерских. А когда им исполнилось примерно по 40 лет, стали искать друг друга.
«У нас были необыкновенные встречи, — говорит Лилия Васильевна, — нас в 1970-е годы нашёл лётчик, Герой Советского Союза, капитан Советской армии, Герой Советского союза Давид Васильевич Джабидзе. Киностудия «Грузнаучфильм» послала телеграмму и пригласила на съёмки документального фильма о нём. Оказывается, он охранял в воздухе наш поезд, который вёз нас, детьми, в эвакуацию». Отобрали четырёх человек для съёмки, в том числе, и директора нашего детдома Евгению Васильевну. Это было примерно в 1976 году. Бывшие воспитанники встречались с директором детского дома каждый год в день её рождения 9 декабря, у неё дома на улице Зорге. А в день 90-летия Евгении Васильевны про неё сняли сюжет для Ленинградского телевидения. Делал репортаж журналист Виталий Лукашов.
Сейчас Лилия Васильевна, несмотря на возраст, активно участвует в общественной работе, вместе со своей подругой Маргаритой Михайловной Степановой состоит в обществе жителей блокадного Ленинграда. Лилия Васильевна бережно хранит память об ушедших товарищах по детскому дому и поддерживает связь с ныне живущими. В её воспоминаниях и на фотографиях оживают ребята: Коля Быстров, Валечка Иванова, Ниночка Бардадинова. Ведь они живы, пока их помнят.
Автор: Анна Жигалова
#Блокада_Ленинграда #Дети_войны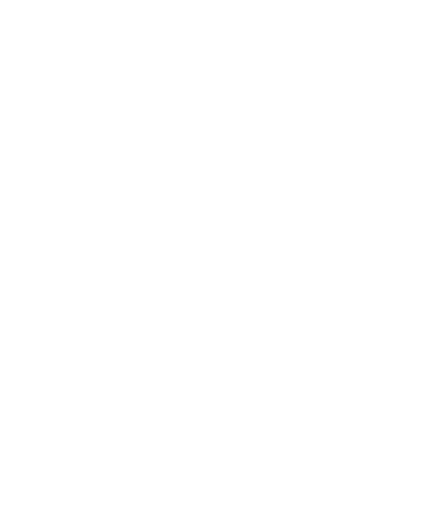
Первое время Александр Королёв вместе с друзьями собирал медь: «Государство сказало сдавать, поэтому мы с энтузиазмом взялись за это дело: даже открутили в доме водопроводные краны». Но очень скоро пришлось пойти на настоящую работу. Отец мальчика в самом начале войны вышел на пенсию, и положение семьи, которое и до этого нельзя было назвать завидным, ухудшилось. По продуктовым карточкам для неработающих можно было получить только 400 граммов хлеба, в то время как сотрудники различных предприятий могли взять вдвое больше.
Голод заставил Александра Алексеевича начать подрабатывать на заводах. Конечно, подростка никто официально в штат не брал, но продуктовые карточки он всё-таки получал.
В 1944 году в Москве прошёл слух о том, что в Ленинград набирают добровольцев для ледокольной проводки судов по трассе Северного морского пути, а также союзных конвоев в зимнее время в Белое море. Старший брат Александра Алексеевича, который работал геодезистом в Главном управлении Северного морского пути, решил устроить подростка на один из кораблей: «Он сообщил обо мне Эрнсту Кренкелю — начальнику Управления полярных станций и связи Главсевморпути. Меня вызвали к Кренкелю в кабинет. Увидев подростка, он был возмущён, назвал меня сопляком, и был уверен, что мне не удержать в руках лопату или винтовку», — вспоминает ветеран.
Однако Александра Алексеевича всё же приняли в отряд. Его и других добровольцев доставили в Ленинград и распределили на легендарный ледокол «Ермак». Рабочих рук для обеспечения движения конвоев не хватало – всех, кто мог сражаться, забирали на передовую. Экипаж судна оказался разношёрстным: помимо таких же подростков, как Александр Алексеевич, там были солдаты с потопленных немцами кораблей, члены команды ледокола «Красин» и моряки из Севастополя. «Офицеры во время операций учили нас любить и защищать свою Родину, относиться к ней с любовью».
Работа на ледоколе давалась Александру Алексеевичу тяжело. Подростку приходилось дни напролёт таскать уголь и бросать его в котёл — на «Ермаке» их было десять, нести по шесть часов вахту с пулемётом. «Всё как в песне поётся, — говорит ветеран, — «На палубу вышел, сознанья уж нет. В глазах у него всё помутилось». Кормили плохо — во время рейса 90 копеек на человека, в каботаже за Кронштадтом и того меньше — 20. Утешала лишь одна мысль: на фронте ещё страшней».
Во время войны ледоколы занимались проводкой союзных конвоев, которые доставляли в Советский Союз боеприпасы и технику по программе ленд-лиза. Немцы вычисляли координаты военных судов в Арктике и беспощадно их бомбили. Отступать было сложно — кругом лёд. «Ермак» раскалывал холодные глыбы и успевал вывести суда из ледяного плена до того, как первые немецкие снаряды достигали цели. Когда «Ермак» возвращался в Кронштадт, то помогал с перевозкой продуктов в Ленинград, забирал раненых.
Александр Алексеевич признаётся, что почувствовал себя в какой-то степени героем, лишь когда ледокол «Ермак» получил орден Ленина. Но во время сопровождения конвоев, в схватке с немцами, было совсем не до этого. В ушах стояло одно: «Пацан, угля!» «У смерти не было границ — человек мог погибнуть везде. Поэтому я считаю героями всех, кто так или иначе столкнулся с этой войной».
Новость о капитуляции Германии в 1945 году на ледоколе встретили с восторгом. В оглушительной тишине раздались радостные крики. «Было ощущение, что в мире случилось что-то такое, чего мы ждали чуть ли не с рождения. Все кричали, свистели, даже сквернословили. И я тоже кричал», — рассказывает Александр Андреевич.
После окончания войны Александра Королёва списали с ледокола. Он попал на пароход «Днестр», который занимался приёмкой судов из Германии по репарации. Затем работал кочегаром на пароходах «Малыгин» и «Алёша Попович», участвовал в перегоне буксира на Сахалин. В составе отряда добровольцев он прошёл путь от Петрозаводска до порта Москальво. «Нас называли смертниками, потому что в Арктике тонули даже ледоколы, ледяной пояс давил пароходы, но мы уцелели».
Жизнь сложилась так, что после войны Александр Алексеевич оказался в Ленинграде, где встретил свою любовь и обрёл семью. С супругой Серафимой Ивановной они вместе уже более 70 лет, у них прекрасная семья и растут замечательные правнуки.
#Ермак #Морской_Флот
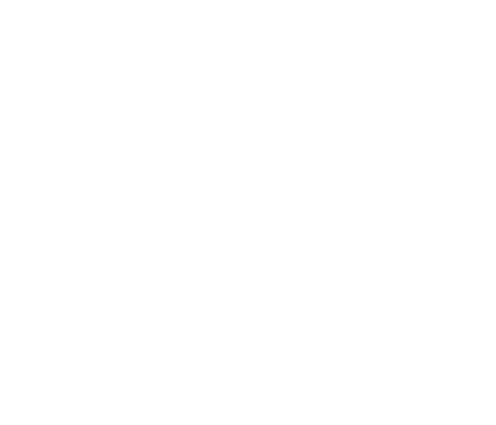
Когда началась война, Кире было 10 лет, а её сестре Серафиме в июле исполнилось 12. О начале войны они услышали в воскресенье. Был хороший солнечный день, и они играли с ребятишками в своём дворе. Сначала дети не испугались, и даже, наоборот, кричали: «Ура!», «Победим!» А потом выскочили на Исаакиевскую площадь, где был громкоговоритель. И вот тут уже, посмотрев на взрослых, кто-то заплакал.
Их отца в первый же день мобилизовали на войну. Дети его так никогда больше и не увидели... Он пропал без вести в декабре 1941 года. В семье осталась мать, сёстры Серафима с Кирой и их брат, который родился прямо перед войной, 20 апреля 1941 г. Девочек в начале июля эвакуировали со школой в Новгородскую область, за Малую Вишеру, в деревню, а маленький брат остался с мамой. В деревне сёстры работали на прополке льна, но пробыли там очень мало, не больше двух недель. Начались бомбёжки и голод. Утешением для девочек стала почта: они много писали маме.
Мама уговорила крёстную, и та приехала за ними и забрала их. Они ехали на лошади, а потом на поезде и очень боялись. Ехали очень долго, пропуская эшелоны с военными. Бомбили без конца. Пассажиры прыгали с поезда, скатывались под насыпь. А потом паровоз гудел, собирал всех, и они ехали дальше. Потом люди рассказывали, что в другой эшелон, в котором везли детей, попал снаряд. Но этим девочкам повезло: они доехали до Ленинграда.
Никто тогда и не предполагал, что война будет настолько страшной, что начнётся голод. Запасов никаких дома не было, дрова быстро закончились. Семья Киры и Симы жила на пятом этаже, и их комната была угловая, очень холодная. Серафима Ивановна признаётся, что до сих пор не так даже голода, как холода боится: с тех пор она его совсем не выносит, чувствует покой только в тепле. Хотя тогда мама сшила ей куртку, и она была очень тёплая. Внутри были карманы для карточек, так как её часто отправляли за хлебом. Серафима Ивановна вспоминает, что однажды хлеба не было три дня. Сейчас ей трудно вспомнить, какой тогда был месяц, вероятно, декабрь или январь, потому что ещё не было прибавления. Поскольку семья не получила хлеб за три дня, то после получилась целая буханка круглого хлеба, что очень обрадовало тогда Серафиму Ивановну. Хлеб привозили горячим — и его сразу же разбирали. Девочка прятала хлеб поглубже, под куртку. Был такой случай: пока все стояли в очереди, ремесленник подбежал и выхватил хлеб у человека, который его брал. Там было всего 125 граммов, и он сразу же запихнул ломоть в рот. Били-колотили его все, кто-то даже плакал. Хотя, конечно, вора было уже бить нечего: хлеба не отнимешь. После этого случая маленькая Серафима придумала хитрость: пока шла, отламывала от хлеба по маленькому кусочку и съедала — все-таки далеко было идти. А когда поднялась на пятый этаж, то громко заревела. Мама выскочила: «Карточки потеряла?» — «Нет, — ответила Серафима, — на меня ремесленник напал и хлеба отломил». Понятно было, что это не ремесленник кусочками отламывал, но мать ответила: «Ничего-ничего, остался хлеб — и ладно». Сейчас Серафима Ивановна вспоминает маму как очень сильного человека. Когда девочка приносила хлеб, его сразу делили на три части: то есть на завтрак, на обед и на ужин. Мать сразу обрезала все корочки и бросала их в кипяток — так она варила суп.
Когда в их доме организовали госпиталь, стали привозить продукты для раненых и складировали их в большом подвале. Когда выгружали машины, девочка всё бегала туда. Солдаты увидят, что там девчоночка бегает, и то сухарик кинут. А однажды какой-то солдатик кинул пачку лаврового листа, граммов 300. Что это была за радость! Лавровый лист бросали в кипяток вместе с корочками, солили — это была похлебка на обед такая. А на завтрак по кусочку хлеба и пустой кипяток, ни сахарного песка, ни конфет — ничего не было. На ужин тоже кусок хлеба. Трудно было. Мяса, конечно, не давали. Но Серафима Ивановна вспоминает, как один раз всё же выкупила мяса и принесла домой. Мать что-то хотела приготовить, но оно было замороженное, поэтому она положила его на окошко, чтобы оттаяло. Мать и Серафима ушли, а когда вернулись, увидели, что мяса уже не было — осталась только одна кость. Всё сестра съела, сгрызла сырым. Есть-то хотелось. Ну что ж уж тут ругать? Не ругались.
Маленького брата мама кормила сначала грудью, а потом, когда наступил голод, ему тоже хлеб в тряпочку заворачивали и давали сосать. Однажды ему дали от поликлиники 200 граммов каши овсяной сразу на 3 месяца: на январь, февраль и март. А поликлиника была тогда на Театральной площади и идти туда было далеко и очень страшно, конечно, — бомбёжка была. Серафима Ивановна вспоминает, как бомбили на улице Жуковского, а она в 50 метрах была от места, куда снаряд попал и разорвался. Взрыв был сильный. Когда она пришла в сознание, увидела, что угла дома нет — только абажур болтается. Серафима несла кашу для брата, и ей было очень тяжело, есть хотелось. Она прятала её, теплую, под курткой, но иногда всё-таки пальцем туда макала. Расстраивается: «Принесу на донышке, вместо 200 граммов… Ну сколько-то принесу. Не знаю, что там мама делала, с этой кашей. Конечно, я уже сколько раз и Бога молила: «Господи, прости меня за это, что я от них-то эту кашу отнимала».
Кира тоже пошла один раз за кашей. И в тот день она увидела грузовик, в который грузили маленьких умерших детей, голых. Прямо за ноги бросали их туда. И этот самый грузовик был полный-полный маленьких детей и военные их куда-то увозили. А Серафима видела, как на Маяковской, в Куйбышевской больнице, перекидывали через забор тела уже взрослых. Может быть, умерших от голода, может быть, погибших на фронте. Это тоже было страшно, конечно! Их маленький братик тоже не пережил блокаду и умер 13 февраля 1942 года.
В начале войны детей очень пугала частая смерть. Поднимаешься по лестнице — кого-то несут прямо по ступенькам на простыне, завёрнутого, потому что сил уже нет на руках. Это было страшно…
В 1943 году мать девочек уже работала в больнице, и Кире дали путёвку от её работы. Она была в лагере на Крестовских островах, а Серафиму отправили со школой на огороды работать. Там дети сначала пололи , потом собирали урожай : морковку и капусту. И вот там их хоть немножко подкормили. В ноябре, по окончании работы, детям дали медаль за оборону Ленинграда. Серафима Ивановна вспоминает работу на огороде с ужасом: бомбёжка шла без конца. Дети прятались от бомб в малиновых кустах, ложились прямо возле грядок. Разве это укрытие? Снаряды летят, всё взрывается.
«А так всё время было трудно, — говорит Серафима Ивановна. — Очень часто меня спрашивали рассказать про блокаду. Ну не могу… Смотрите, уже почти 80 лет прошло, а я всё равно вспоминаю это всё и плачу. Не могу, не могу… Никак не забывается. Но народ был хороший, друг друга поддерживали. И вообще как-то никогда не ругались <…> Не знаю я такого, чтобы как-то там убивали, раздевали, грабили. Может, нам не попадалось это, не знаю, хотя я ходила много, но ходила днём».
«Когда люди узнали сначала о прорыве блокады — такая радость была! Это было в 6 часов. Радио тогда всё время работало, не выключали, потому что так узнавали все новости: то бомбёжка, то хлеб прибавляли. Услышали о прорыве — все проснулись, на улицу выбежали, целуются! Все друг друга поздравляют! Салютов тогда ещё не было».
Переживали потери: остались только мать и они, две сестры. Узнали о снятии блокады. Праздники были непривычны, первые радости за время войны. Но появилась надежда, и Победу ждали уже обязательно! Сёстры вспоминают, что их мать часто повторяла: «Вот дождёмся победы, дождёмся победы — заживём». Ну а потом, когда пошли в школу, разговоры уже только об этом и были. Ведь блокада уже снята! Сёстры вспоминают: «Сначала прорыв блокады, потом снятие — уже Победа была». И, когда она, долгожданная, наступила, радости не было предела! Люди на улице шумели, смеялись, поздравляли и целовали друг друга.
Война закончилась, сёстры вышли замуж и сменили фамилии. Серафима Иванова стала Королёвой, а Кира Ивановна Головань. У них родились дети, потом внуки и правнуки, но они всегда будут помнить жизнь в те страшные дни, погибших отца и братишку, а также силу характера матери, которая смогла уберечь их от смертельного голода и жестокого холода в дни блокады.
Автор: Мария Хмелинина
#Блокада_Ленинграда #Дети_войны
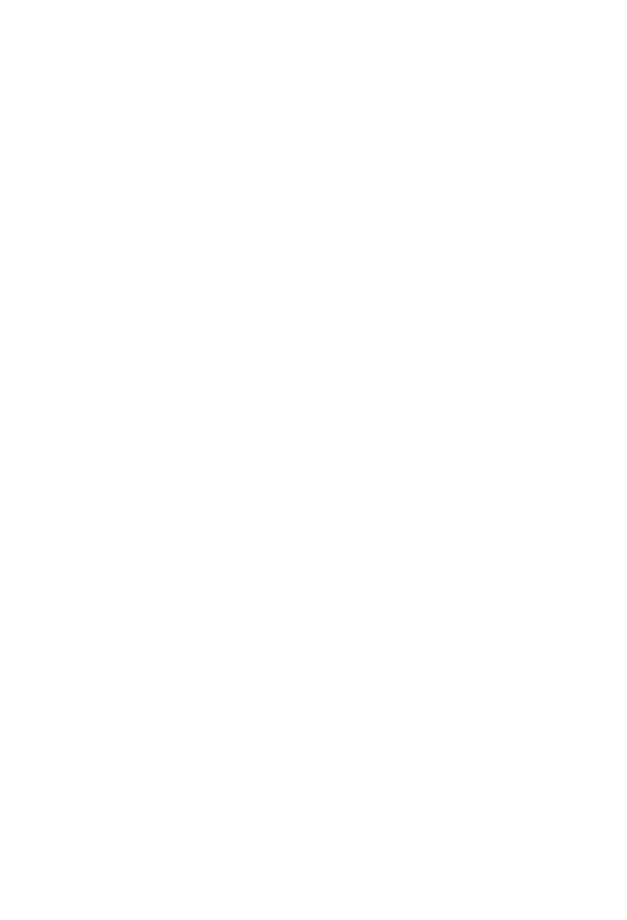
Любопытство как способ выжить
Николай Владимирович – ведущий инженер ЦНИИ «Электроприбор», автор запатентованных разработок, герой документальных фильмов. В его глазах отражается ужас войны, которую он смог выдержать от начала и до конца.100 лет не помеха
На 100-летнем году жизни Николая Владимировича пригласили сделать выстрел из пушки Петропавловской крепости в память погибших в Таллинском переходе. Для моряка это стало почётным и важным событием.
После выстрела кто-то шутливо спросил у Николая Владимировича:
– Ну как, Николай Владимирович, осилили?
– Получилось. Долго тренировался, - ответил герой, лукаво улыбаясь.
Из моряка в пехотинцы: любопытство помогает выжить на войне
Война застала Николая Владимировича на эсминце «Гордый» во время его службы. По звуку боевой тревоги моряки вышли в море. И уже в конце августа 1941 г. они приняли участие в Таллинском переходе, или прорыве, как ещё называют эту военную операцию, ставшую впоследствии легендарной. Задача военных была сопровождать и защищать от самолётов конвой и суда с людьми — всего 225 единиц, которые проходили буквально по минному полю. Впереди шли шесть тральщиков и крейсер «Киров», где находился командующий Балтийским флотом адмирал В.Ф. Трибуц. Справа их сопровождали эскадренный миноносец «Гордый», а слева — «Яков Свердлов». Без пяти девять вечера подводная лодка запустила торпеду в «Киров», и командир «Якова Свердлова» пожертвовал своей жизнью и жизнями экипажа, подставив свой борт под торпеду. Таким образом «Киров» был спасён, а «Яков Свердлов» погиб вместе со всеми своими моряками. Но и «Гордый» тоже пострадал — обнаружив в воде мину, его команда из 4-х человек, включая Николая Владимировича, ответственных как раз за эти устройства, подтащили её к своему борту и тоже подорвали. В результате взрыва столб воды подбросил всех четверых метров на 10 вверх, и затем шлёпнул об палубу, после чего Николай Владимирович получил тяжёлую контузию. Его доставили в очень плохом состоянии в госпиталь в Кронштадт. Однако долго тогда в лазарете не держали, поэтому вскоре Николая Владимировича уже подготовили и направили на Ленинградский фронт.
В это тяжелое время даже покорителям морской стихии приходилось воевать и на земле. Когда немцы стали активно наступать на Ленинград, взяли 8 сентября Шлиссельбург и замкнули кольцо вокруг города, руководство стянуло все силы для противостояния. Так моряк Николай Владимирович на время стал пехотинцем.
«На фронте о жизни не думали – убьют, так убьют. Я изучил полёт мины, снаряда. Кто-то сразу падает на землю, когда слышит, как она летит и шипит, а я нет. Я уже знал, как она упадёт, как разорвётся и как полетят осколки. И понимал, когда нужно падать, когда бежать, а когда лучше оставаться на месте», — рассказывает герой. Его любопытство поможет ему не раз противостоять смертельной опасности на фронте.
Вспоминает случай: поползли они вдвоём с сослуживцем восстанавливать обрыв линии связи, так как были связистами, и оказались засечены вражеским лётчиком. Мессершмитт на бреющем полёте дал две очереди по воинам. Пашка только успел сказать: «Коля, я ранен», — как свалился замертво. Николай увидел, что у сослуживца ниже пояса просто дыра, он попытался засунуть туда пакет, но понял, что помочь ему уже нечем. Чтобы выжить самому, герой пошел на хитрость и лёг рядом со своим товарищем. Лётчик высунулся из кабины, убедился в смерти обоих солдат и исчез с горизонта. А Николай выжил, хоть и получил серьёзные ранения от осколков разорвавшейся мины, порезавших ему вену. Николай Владимирович смог остановить кровотечение, которое было настолько обильным, что рубашка, которой он перевязал руку, была хоть выжимай от крови. Несмотря на сильную кровопотерю, в больницу ложиться он отказался, ведь потом его бы отправили служить в другой отряд, где все незнакомые. А «свои» ребята с корабля были дороже всего.
Однажды в районе Ям-Ижоры при наступлении на Красный Бор во время сильного снегопада рядом с Николаем Владимировичем разорвался снаряд, и он получил такой удар по голове, что трое суток пролежал без сознания, заметённый в сугробе. Но Николай не только выжил, но и пришёл в себя. После такой сильной контузии у него начались приступы с обмороками, для лечения которых его на долгих 3,5 месяца поместили в госпиталь. Из последствий осталось только нарушение терморегуляции тела и температурных ощущений, благодаря чему уже в послевоенное время Николай Владимирович на протяжении многих лет ежедневно, независимо от сезона и погодных условий, окунался в Неву.
После выписки из госпиталя он вновь вернулся на фронт, но уже на эсминец «Стройный», на котором принимал участие в прорыве блокады с 12 по 17 января 1943 г. Они помогли пехоте продвинуться на 65 км, за что весь коллектив наградили медалями «За оборону Ленинграда». Николай Владимирович вспоминает, как в ходе прорыва огонь вели с такой интенсивностью, что стволы накалялись, и в какой-то момент снаряд разорвался прямо в стволе. Из-за этого ствол оторвало, и он упал на берег прямо рядом с полевым госпиталем. Помнит, что оттуда все выбежали и стали кричать: «Эй, а почему это Вы нас обстреливаете?»
От судьбы не убежишь
Однажды к Николаю Владимировичу, который уже был в должности сержанта, пришёл матрос и плакал, вырывая на себе волосы. Выяснилось, что он пристрелил своего сослуживца за большие часы и «красненькие» (30 рублей). Умерший товарищ хотел стать самострелом – человеком, который ранит себя , чтобы потом не воевать. Но поскольку командующий состав предупреждали о таких и научили самострелов определять, то он и попросил матроса за вознаграждение прострелить ему руку с расстояния, чтобы никто ничего не заподозрил. А матрос промахнулся и попал ему в грудь, отчего тот на месте и умер. Как говорится, от судьбы не убежишь.
Цветущий и поющий яркий май
День Победы Николай Владимирович встретил на корабле. Все были сильно измотаны, но радовались тому, что прекратились выстрелы и наступил мир. Однако, испытания на этом не закончились: корабль попал в девятибалльный шторм! Впрочем, на фоне того, что уже было позади, это были мелочи — и судно, и команда смогли противостоять стихии и выжили.
Жизнь после…
После демобилизации в 1947 году Николай Владимирович пошёл работать в ЦНИИ «Электроприбор», где от техника-электрика дорос до ведущего инженера и стал автором множества запатентованных разработок. Он всегда ко всему относился серьезно, с чётким представлением и желанием воплотить задуманное. Он был требовательным, настоящим профессионалом, за что коллеги центра его бесконечно уважали.
Коллеги в открытке в день выхода на пенсию написали:
«Вы достигли больших успехов ещё и потому, что на всё имеете свою точку зрения. Всегда знаете, что делаете. Чётко представляете, как загнать выходные транзисторы в режим класса “Б”, что нам противопоставить СОИ (Системе противоракетной обороны США — прим. ред.), как развить индивидуальную трудовую деятельность, можно ли женщинам ходить на работу в купальниках и многое-многое другое. Для Вас всегда копируют то, что никому не копируют никогда, для Вас на складе находят элементы, которых даже нет в учётных карточках, без Вашего разрешения отделу стандартов не выдают стандарты. Для нас это вершина непостижимая и недостижимая».
Но особенно глаза Николая Владимировича загораются тогда, когда он рассказывает про своих правнуков. Правнучка поёт и занимается гимнастикой, а правнук блистает в точных науках. В доме много фотографий внуков, правнуков. Они молодые, здоровые, с жизнерадостными лицами. Их прародители прожили долгую и насыщенную жизнь, сделали много полезного, а их детям только предстоит родиться. Страшно представить, что всего этого могло не быть, если бы не герои Великой Отечественной войны, которые остановили фашистскую машину смерти.
В хитросплетениях человеческих судеб легко не разберёшься. Представьте, что те, кто отдал свою жизнь в годы войны, дали возможность появиться на свет вашим родителям, а им родить вас. Возможно, дедушка человека, с которым вы случайно пересеклись взглядом сегодня в метро, пожертвовал своей жизнью, спасая вашего прадеда или прабабушку. Даже если он из братской Белоруссии, Украины или Узбекистана. Это большая удача в наши дни поговорить с участником той Великой Победы, с одним из её творцов, с Николаем Владимировичем Бричуком.
#морскойфлот #воспоминаниясолдата #победа #перерывнавойну #жизньпосле
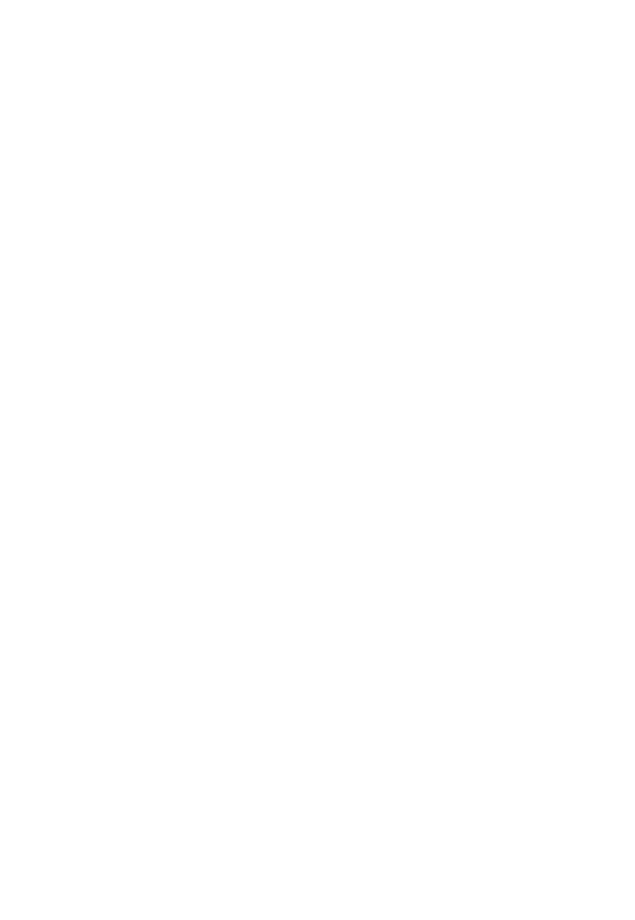
Ирина Алексеевна – ребёнок блокадного Ленинграда. Её история спасения трогает
до глубины души, а рассказанные события приводят в ужас и закрепляют мысль о том,
что любой ценой нужно не допустить начала новых военных конфликтов.
Когда началась блокада, мне было почти 3 года, поэтому всё моё детство – одна
сплошная блокада.
Мой отец ,Бочаров Алексей Васильевич, был военным, служил сначала на Финской
войне, а потом на Ленинградском фронте, где оказался в Демянском котле. Закончил он
войну на Восточном фронте, в Манчжурии. Во время боевых действий получил ранение в
живот - рана была похожа на пушкинскую: кишечник прострелен в семи местах. Из-за этого
он потом и умер, уже в 60-х годах. Мама,Жерехова Надежда Васильевна, всю жизнь
проработала на Кировском заводе, в том числе и в войну.
Все родственники, так или иначе, защищали Родину в то непростое время. Например,
брат Николай Васильевич служил военным врачом, а после стал одним из героев рассказа о
военных врачах. Всего родных было 43 человека,войну из которых пережили только 12.
Чётко помню, что в самом начале войны меня пытались эвакуировать. Примерно 10
июля 1941 года меня и других детей вывозили на эшелонах из Ленинграда. Ехали долго: 8
дней потребовалось,чтобы преодолеть 400 км. В вагоне могло быть как и 50, так и 300 детей
до 15 лет, поэтому в каждом была няня и воспитательница, а со старшими находились
учителя. В дороге нас не кормили, многие не выдерживали и умирали. Няни на остановках
бегали с чайниками за водой и пытались хотя бы напоить детей.
Впервые мы смогли поесть лишь через 8 суток, на станции Лычково Новгородской
области. Там к нам должны были подсадить ещё детей, но неожиданно налетели немцы и
стали бомбить. Во время авиаудара я оказалась под горой трупов и горелых обломков
поезда в каком-то воздушном мешке. Часть вагона так согнулась, что меня не задавило,
видимо, воздух сохранился, поэтому я выжила.
Через сутки стали разгребать обломки и трупы, хоронить погибших в общей могиле.
Никто до сих пор не знает, сколько было детей в поезде, но по некоторым данным около
2000, а спустя годы из выживших откликнулись лишь 17 человек. Это было жуткое зрелище:
везде валялись оторванные конечности детей, их окровавленная одежда, даже на проводах
висели куски детских тел. Местный 14-летний мальчишка Лёша Осокин помогал разбирать
завалы. Среди обломков он увидел торчащую детскую ручку с красивой куклой, которую
решил забрать, чтобы подарить сестре. Но эту куклу я крепко держала в своей руке, так меня
и нашли. Кукла спасла мою жизнь, поэтому её я бережно храню до сих пор.
Первое время я жила вместе с семьёй этого Лёши, но когда немцы пришли в деревню
Белый Бор, их выгнали из дома прямо на улицу. Мать, собрав всех детей и бабушку, ушла
жить на болото. Там двое своих детей у неё умерли, и она опасалась и за мою жизнь.
Неподалёку проходила линия фронта, и меня отдали военным, чтобы те решили мою
дальнейшую судьбу. Те по меткам, пришитым на одежде, и медальону, в котором
сохранилась бумажка с моими данными, нашли мой дом и отдали меня маме. До конца
войны мы с ней больше не расставались. «Умирать – так вместе», - говорила она.
Подробную историю спасения я узнала лишь спустя 46 лет. В 1985 году мы с мужем
купили дом с участком, где решили построить баню. В строительстве нам помогал плотник и
его друг. После окончания всех работ мы разговорились и стали вспоминать войну. Один из
гостей рассказал, что разбирал обломки эшелона с ленинградскими детьми и спас
маленькую девочку, у которой была кукла. В тот момент я удивилась такому совпадению и
рассказала, что меня тоже спасла кукла, когда я была маленькой девочкой. Через несколько
дней он узнал спасительную игрушку по черной изоленте, с помощью которой сам же когда-
то примотал оторванную ладошку куклы. Так мы и нашлись спустя годы, а потом дружили до
конца его жизни.
Начало войны я помню плохо. Знаю точно, что я ходила в садик-очаг. Один жуткий
случай врезался мне в память на всю жизнь. Однажды,когда воспитательница читала нам
сказку,мальчик, сидевший впереди меня, всё время дёргал девочку за косичку. За это его
наказали – поставили в чулан, где хранились всякие тряпки, да швабры, и закрыли дверь. Он
сначала заплакал, потом замолчал, а потом начал истошно кричать. Мы попросили
воспитательницу выпустить его, но она была непреклонна. Спустя некоторое время она все-
таки решила его выпустить, но было поздно: крысы, жившие в этом чулане, объели его лицо
и руки. Это моё самое первое яркое и самое страшное воспоминание о войне.
Дальше я уже запоминала всё, что тогда происходило. Нас кормили дважды в день:
утром был чай с маленьким кусочком хлеба, а вечером около пяти часов давали немного
жидкой манной каши. Часто мы ночевали в саду, потому что ежедневно ходить по 10 км в
день моей матери было тяжело, особенно когда организм истощен, а завтра снова на работу.
Дело в том, что мы жили на Пестеля, а мама работала на Кировском заводе. Поэтому она
забирала меня домой на выходных, мы мылись, приводились в порядок, а затем снова она
шла на Кировский завод, а я в очаг. Вот так мы с мамой и пережили войну.
Ирина Алексеевна проработала в школе учителем физики 46 лет. В 90-х годах на
классных часах начала рассказывать детям о войне. Читала им стихи Анатолия Молчанова,
который тоже пережил блокаду в Ленинграде. Её любимое стихотворение – «На
Рубинштейна, 18». В нём рассказывается о девочке, которая попала под бомбёжку, и ей
оторвало ногу. Но она просит, чтобы об этом не говорили её маме, чтобы та не переживала.
«Я раньше думала, что не нужно говорить детям о войне. И не говорила. Когда начали
усиленно предавать всё это забвению, я поняла, что об этом молчать нельзя. Надо, чтобы
дети знали. Чтобы такое никогда не повторилось».
Сейчас Ирина Алексеевна соучредитель и член Совета общественного движения
«Вечно Живые». Движение сотрудничает со школами Петербурга, кадетскими корпусами,
высшими учебными заведениями и проводит множество мероприятий. Основная цель
общественного движения – сохранить память о Ленинграде и ленинградцах. Чтобы молодое
поколение не только знало о произошедшем, но и не допустило подобных событий в будущем.шш10174001119
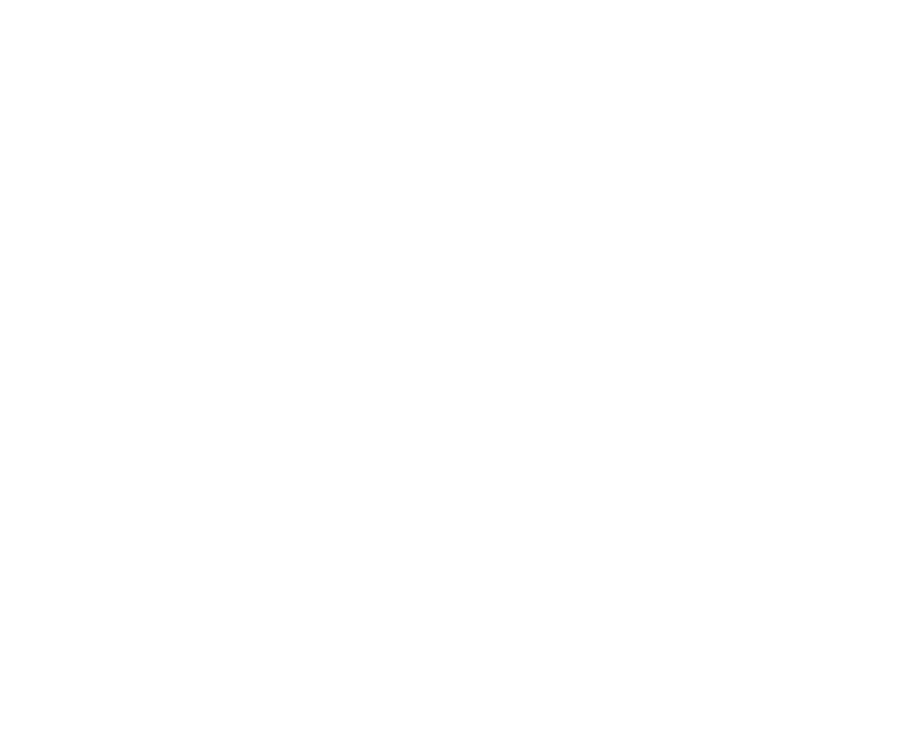
Людмила Сергеевна Бахарева – человек, всю жизнь проработавший в
судостроительной промышленности. Проектировала атомные ледоколы
«Арктика» и «Сибирь». В командировках изъездила страну от северных до
южных морей. Награждена медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», «300 лет Российскому флоту», а также памятными
медалями и знаками: «Жителю блокадного Ленинграда», «В честь 50-, 55-, 60-,
65-, 70-, 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,
«50, 55, 60, 65, 70, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Людмила Сергеевна родилась в Ленинграде в 1933 году, и первый день
войны помнит очень хорошо. Это было солнечное и неторопливое воскресенье.
Девочка красовалась во дворе в новом платьице, в новых босоножках и с
огромными бантами в косах – они с мамой собирались ехать в гости. Внезапно
пришла весть, что началась война! Ещё тогда она, восьмилетняя девчушка, не
могла понять, почему все плачут, ведь война с Финляндией (1939-1940 гг.) уже
окончена, и от неё в городе остались лишь затемнённые окна да синие лампы
уличных фонарей.
Вскоре около управдома собрались взрослые, которые решили готовить
бомбоубежища и обустраивать чердаки. Во двор привезли машину песка, а
ребятам сказали ходить по квартирам и собирать женские чулки. Потом эти чулки
наполняли песком, как «колбасы» примерно одной длины, и укладывали, словно
поленницу дров на чердаке. Песком тушили возгорания от бомб. Также девочку
Люду и других ребят привлекли к заполнению бочек на чердаках водой – они в
бидонах по цепочке передавали воду и наполняли эти бочки.
В июле, когда проходила эвакуация предприятий и заводов на восток страны,
из Ленинграда в Казань, как рабочий, был отправлен отец. Мама с Людой
остались в Ленинграде, так как ухаживали за больной бабушкой, которая умерла в
октябре 1941-го. Её успели похоронить в гробу, а позже и это стало считаться
«изыском» – в самое голодное и суровое блокадное время умирало так много
людей, что трупы только заворачивали в какую-либо ткань и хоронили в общих
могилах.
Юная ленинградка вместе с мамой часто дежурила вечером на чердаке и
своими глазами видела, как фашисты бомбят город. Людмила Сергеевна
вспоминает, что, несмотря на ожесточённость немецкой авиации, в их дом на
Садовой улице, 48, ни одна бомба не попала.
Особенно ей запомнились вечер и ночь 8 сентября 1941 года: в небе стоял
постоянный гул вражеских самолетов, а кругом- гром и грохот разрывов! В
городе стало светло от бомб и зажигалок, словно днём. Рушились дома, горел
горизонт. Это была «золотая ночь». Немцы разбомбили продуктовые Бадаевские
склады, оставив город без продовольствия и поставив его на порог гибели.
Началась страшная блокада, которую преодолели далеко не все…
Именно в сентябре 1941-го Люда должна была пойти в 1-й класс, но школы
не работали. Небольшие группы учеников с ближайших домов собирали вместе, и
к ним приходила учительница. Уроки проводили в бомбоубежище, которое
располагалось в подвале дома Людмилы. Но это продолжалось недолго,
буквально до начала холодов. Вскоре пришлось не до учения...
Голод, холод, темнота и бомбёжки стали каждодневными спутниками
ленинградцев. Норма выдачи хлеба снизилась до 125 граммов для детей и
иждивенцев, а для работающих – до 250 граммов. Эти хлебные крохи мама Люды
делила поровну, но и их катастрофически не хватало, чтобы утолить бесконечный
голод. Есть хотелось ужасно, ночью не спалось! Мама с 4 часов утра уходила в
булочную за хлебом.
В 1941-м морозы наступили рано, и уже в начале ноября Люда с мамой и
соседкой по квартире оказались в нечеловеческих условиях: оконные стёкла
выбиты взрывной волной, водопровод и канализация замёрзли, электричества нет.
Стали жить сообща в одной комнате, где установили буржуйку. Здесь было
спасение: отец до отъезда в эвакуацию заготовил целый сарай дров, и можно было
протапливать печку, а на буржуйке греть чайник и в нём растапливать снег.
Зиму 1941-1942 гг. просидели в тёмной комнате и слушали радио, откуда по
несколько раз в день раздавались сигналы «Воздушная тревога», и
запомнившийся на всю жизнь звук метронома. Ближе к восьми вечера, почти
ежедневно, радио перекрывали гудящие звуки летевших на город фашистских
бомбардировщиков и начинавших бомбёжку.
Ещё до войны мама Люды была солидной женщиной и весила более 80 кг.
Она даже собиралась лечь на операцию по удалению жира с живота, но не успела.
Зимой 1941 года её вес достиг 39 кг! Несмотря на дистрофию, мама всю блокаду
оставалась энергичной. Она, как говорили в народе, «не слегла», часто ходила на
барахолку на Сенной площади, где меняла вещи и иногда приносила кусочек
хлеба, сахара или дуранды (спрессованные бруски отходов, оставшихся от
производства муки или масла). А однажды знакомая из соседнего дома дала маме
за золотую брошь с бриллиантами и сапфиром 1,5 кг пшена – это была роскошь в
голодном городе и огромная поддержка для изголодавшихся людей!
Людмила Сергеевна помнит много эпизодов из блокадной жизни и делится
ими. В квартире напротив жила женщина с двухлетним ребенком. Однажды мама
Люды зашла к ним и увидела, что мальчик сидит в кровати около мёртвой матери.
Мама забрала малыша, истопила печку, нагрела воды, посадила его в тазик и
стала мыть. Волосы мальчика слиплись и никак не распутывались. Тогда мама
взяла частый гребень и стала их расчёсывать. Из волос что-то посыпалось...
—"Мама, сколько у него крошек в голове!" – удивилась Люда.
А мама ответила:
—"Это не крошки, это вши, доченька..."
Через несколько дней мальчика забрали девушки из МПВО (местной
противовоздушной обороны) и определили в детский дом.
И далее продолжает об ещё одном запомнившемся эпизоде из блокадной
жизни. Весной, после суровой зимы 1941-1942 гг., открыли баню на проспекте
Майорова (ныне Вознесенский пр.) на углу с каналом Грибоедова. Люда с мамой
пришли, разделись, стали мыться. Голые женщины в бане были очень страшными
и худыми! Живые скелеты... И вдруг раздался грохот, всех моющихся снесло и
прибило к одной стене помывочного отделения. Шум, крики, кровь (некоторые
сильно пострадали, ударившись о мраморные тяжёлые банные лавки),
испуганный плач детей. Люди спешили покинуть баню. Когда вышли, то увидели,
что наискосок, на противоположной стороне канала Грибоедова, в пятиэтажный
дом попала фугасная бомба, и дом был разрушен до основания. Так печально
закончилось первое посещение бани после ужасной зимы...
С весной жизнь в городе стала оживать и налаживаться. В марте 1942-го
прошли общегородские субботники и уборки, а в апреле на линии вернулись
пассажирские трамваи, которые не ходили всю зиму. Тогда же, когда потеплело и
стало светло, оставшихся в округе детей собирали в помещениях Октябрьского
райисполкома, что на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта, и стали
проводить уроки чтения и письма. Люда была отличницей, так как читать и
писать её научила бабушка ещё до войны. За успехи в учёбе её наградили
Похвальной грамотой.
Кругом шептались, что фашисты, которые видели, что Ленинград
просыпается от анабиоза и сбрасывает с себя путы суровой зимы, начали через
диверсантов и лазутчиков распространять по городу бактерии страшных
болезней. Якобы, они хотели хоть таким образом сломить жителей непокорного
города. Однажды Люду и ребят повели во Дворец Пионеров. Там ребятня вдоволь
пила газированную воду с сиропом из автоматов. После этого у девочки начался
сильный понос с кровью, который в больнице быстро остановили. Тогда врач, как
вспоминает Людмила Сергеевна, ей сказала:
—"Запомни название лекарства – это "Бактериофаг". Его изобрели наши
ленинградские врачи. Оно спасло тебе жизнь!".
Шли дни и месяцы войны. Обычно после уроков ребятня рассаживалась в
школьной столовой, и расщипывала хвойные сосновые иголки. Из них повара
делали отвар и поили им детей от цинги. Этот же настой отправляли в госпитали
для раненых, куда иногда ходили Люда и её школьные товарищи. Пели песни,
читали стихи. Люда наизусть читала поэму Маргариты Алигер "Зоя".
На всю жизнь Людмиле Сергеевне запомнился радостный день снятия
блокады – 27 января 1944 года. Они с мамой стояли на Марсовом поле, у Невы.
Был грандиозный салют, люди обнимались от радости, что остались живы,
плакали, смеялись, ликовали, целовались!
Отец с войны не вернулся – по извещению военкомата он пропал без вести в
октябре 1942-го в районе Сталинграда. Девочка с мамой остались вдвоём. Было
трудно, мама работала на двух работах, а Люда получала пенсию за отца.
После 10-го класса девушка с хорошим школьным аттестатом поступила в
ЛИТМО на радиофакультет, хоть туда девушек старались не брать из-за
специфики работы.
Людмила Сергеевна всю жизнь проработала в судостроительной
промышленности. Больше 20-ти лет в КБ «Связьморпроект». Участвовала в
проектировании и строительстве на Балтийском заводе атомных ледоколов
«Арктика» и «Сибирь». Много ездила по стране в командировки на судозаводы:
Керчь, Севастополь, Николаев, Выборг. Замужем, вырастила двоих сыновей.
В этом году Людмиле Сергеевне исполнилось 87 лет, и её память хранит
только самые острые детские воспоминания.А сколько было пережито наяву?
Через память и рассказы таких сильных людей и формируется наша общая
Память – Память о героизме тех, кто не был сломлен!
#Блокада_Ленинграда #Дети_войны
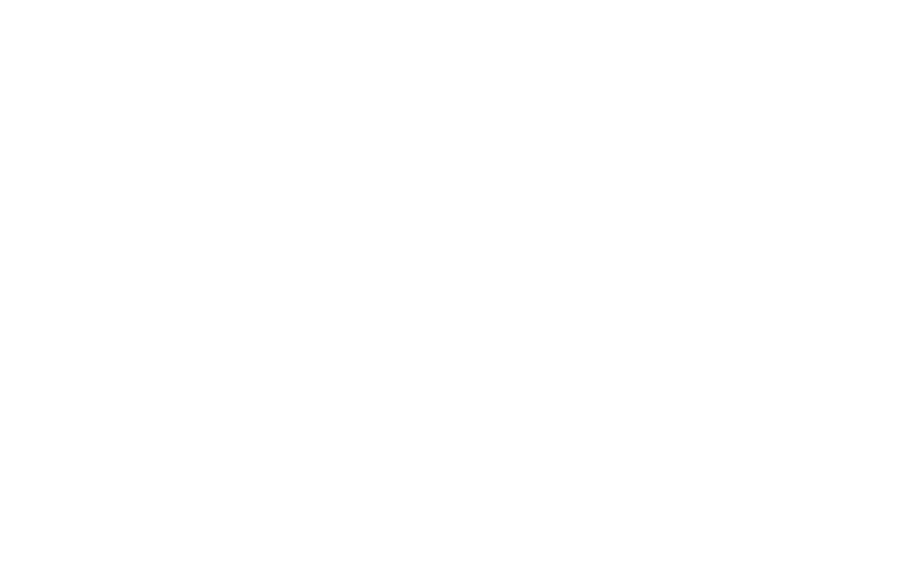
Зоя Романовна родилась 6 декабря 1926 года в деревне Толмачёво Лужского района
Ленинградской области. Отец Зои Романовны работал в пекарне, а мама вела большое
домашнее хозяйство, управлялась со скотом и птицей. Кроме неё в семье из детей был
лишь старший брат, трагически погибший накануне войны, а позднее появился брат, на 5
лет её моложе.
Немцы оккупировали территории Ленинградской области в первые месяцы войны. Дом
семьи Зои Романовны оккупанты сожгли: изба стояла близко к лесу, и враги решили, что
жители пользуются этим, чтобы помогать партизанам.
Лужский район особенно сильно выделялся партизанской активностью. Многие
толмачёвские парни, которым ещё не было восемнадцати, тоже ушли в лес и как могли
мешали планам врага. Когда фашистам удавалось взять в плен кого-то из партизан, на
площади деревни собирали всех жителей и перед ними устраивали показательные пытки
и казни.
«Их сажали в клетки и держали за решёткой, внутрь запускали собак, которые на наших
глазах разрывали мальчишек… Это делалось, чтобы мы знали, что может быть и с нами,
если мы поможем партизанам как-то». Зоя Романовна вспоминает, что самой страшной
из всех стала расправа над её одноклассником, на которую невозможно было смотреть
без слёз. За любое проявление эмоций каратели жестоко наказывали плетьми, поэтому
девушке сильно досталось за её жалость и сочувствие: «Громкие всхлипы были, и вот за
это мне хорошо плетью попало».
Оккупанты заставляли местных жителей работать – 15-летняя Зоя вместе с другими
деревенскими женщинами работала на лесоповале. Спустя некоторое время удалось
договориться о её переводе на работу полегче – помогать отцу в хлебопекарне. Вместе с
отцом придумали способ незаметно добыть семье лишний кусочек хлеба. «Формы были
металлические, и папа переливал тесто через край формы. Получались хорошие корочки,
висящие, горелые. Буханка оставалась целой, а корочки мы срезали, выносили под
одеждой и ели дома», – вспоминает Зоя Романовна.
В начале 1944 года, когда советские войска перешли в уверенное наступление, немцы
стали угонять население с оккупированных территорий на работы в Германию. Людей
гнали пешком десятки километров по разбитой железной дороге до Луги, потом битком
загоняли в вагоны. В вагонах было так много людей, что невозможно было даже сесть.
Так, стоя, и ходили в туалет...
Семью Зои вывезли в концлагерь в город Штутгарт, где разлучили и распределили на
разные работы: «Нас выстроили в ряд, отбирали, как лошадей, по зубам. Мне волосы
подстригли», – вспоминает Зоя Романовна. Девушку определили на производство
автомобильных радиаторов, но работать на благо Третьего Рейха девушка не
собиралась. «Взрослые научили нас делать брак, чтобы машины долго не работали:
паяльник надо было держать долго, чтобы внутрь радиатора прошло олово. Но в один из
дней была выборочная проверка, и я попалась на том, что много олова залила туда», –
рассказывает Зоя Романовна. Надзиратель ударил девушку так, что она упала и,
ударившись головой, потеряла сознание. Последствиями серьёзной травмы стали две
нейрохирургические операции по удалению гематом, которые Зоя Романовна перенесла
уже в послевоенное время.
Однажды кто-то из рабочих цеха, в котором трудилась Зоя, остался после смены на
производстве и, пока остальных уводили в бункер, подорвал цех вместе с собой.
Производство немцы спустя некоторое время восстановили, но после этого работников
перестали уводить в барак и закрывали на ночь прямо в цехе.
С узниками немцы обращались ужасно. Был специальный день, когда заключенным
давали помыться, но отводили на это не более 15 минут. Если кто-то заболевал и
оставался в бараке, то еду ему не выдавали. Остальные заключенные оставляли от
своего пайка по кусочку и осторожно передавали больному. «Кормили в основном
капустой кольраби с какой-то добавкой вроде клейстера. Если давали хлеб, то в нем
попадались опилки. Но, как ни странно, жена немца, который заправлял лагерем, была
очень добрая. Она приносила нам со столовой пленных французов еду», – вспоминает
Зоя Романовна. Доброта человеческого сердца остаётся жить даже за колючей лагерной
проволокой.
Французские солдаты освободили лагерь лишь весной 1945 года, заехав туда прямо на
танках. «Это случилось внезапно, – описывает тот день Зоя Романовна. – Французы
забрали всех нас с производства и из бараков, посадили на танк – и катали по городу! В
домах уже никого не было, где на тот момент были немцы - не знаю. Солдаты отправляли
нас в пустые дома, чтобы мы взяли себе какие-то вещи, одежду и еду». Зоя Романовна
помнит, что она вместе с несколькими освобождёнными полакомилась вишней из бочек в
погребе одного из немецких домов, а после они почувствовали себя странно и
испугались, что вишня была отравлена. Только лишь спустя некоторое время поняли, что
это была забродившая вишня, а они просто опьянели от такого угощения.
Зоя воссоединилась с мамой, папой и братишкой там же, в Штутгарте, спустя полтора
года разлуки и полного неведения о судьбах друг друга. Это был счастливейший момент,
поскольку все чудом остались живы! Но семья вернулась в родную деревню только
осенью 1945 года вместе.
Возвращение оказалось далеко не счастливым. Родной дом был сожжён, и семье
пришлось три месяца жить в сырой землянке. У младшего брата Зои атрофировались
ноги, потом он целый год заново учился ходить. Сама девушка заболела малярией, её
мучали сильные приступы лихорадки. Мама узнала от односельчанки, что от болезни
поможет травяной отвар, которым Зою отпаивали около месяца – к счастью, помогло.
Многие десятилетия после войны семье приходилось тщательно скрывать свою историю,
поскольку узников концлагерей приравнивали к изменникам Родине. Было сложно
устроиться на работу, получить льготы, вступить в партию. Лишь после развала СССР, в
1993 г. узников концлагерей наконец признали на государственном уровне не повинными
ни в каких преступлениях против своей страны и реабилитировали. Их истории о тех
страшных годах наконец стали известны соотечественникам.
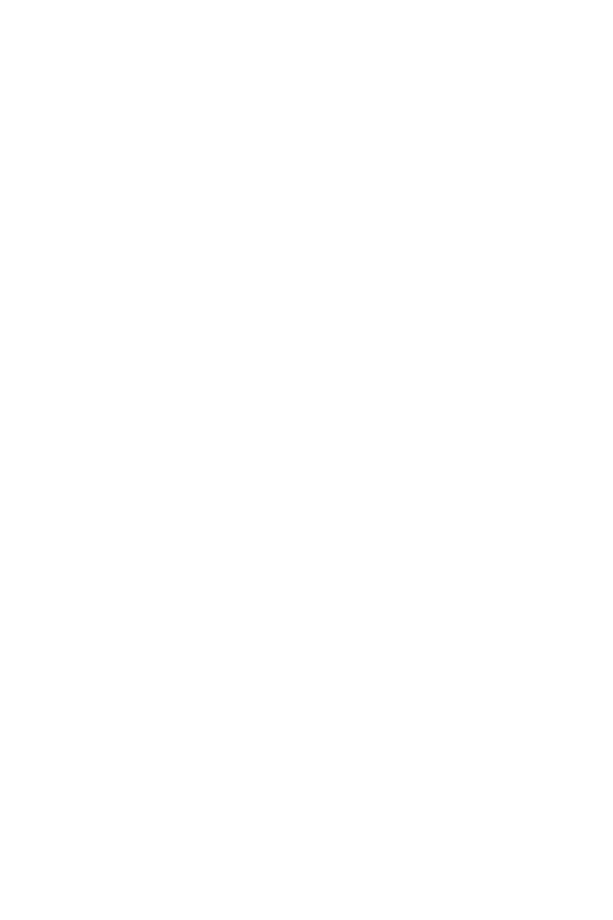
Однажды в поезде девушки задержали диверсанта. В Вырице сел мужчина и спросил у них: «Девочки, а где здесь остановка “Воздухоплавательный парк”?» Ответили: «Мы вам скажем!» А сами с сестрой подумали: «У нас никто так не спрашивает! Все спрашивают, мол, где Воздушка? А тут – «Воздухоплавательный парк», да так ещё одет...» Они позвали милицию (те ходили по составам) и указали на подозрительного мужчину. Его на Воздушке (в вагоне не стали забирать, потому что там было много народу), когда он выходил, сразу и схватили. Позже оказалось, что он ехал по заданию взрывать мост и с кем-то должен был на Воздушке встретиться.
Люба и сестра работали проводницами до последнего – пока не разбомбили путь. Когда ж/д пути взорвали, то в Ленинград они уже не вернулись. Отцу дали общежитие от завода, и он их звал туда жить. Когда собрались идти, Пушкин ещё не был взят немцами. Решили утром идти в Ленинград, но, когда вышли из дома, увидели огромное количество людей с мешками и вещами, и было видно, что все беженцы из Пушкина выходили, потому что город уже начали бомбить. Хотя немцы ещё не вошли в город, но они высадили десант, который начал убивать людей. В Ленинград, к отцу, уже было не выйти. Это случилось 16 сентября 1941-го, а оккупировали Пушкин 18 сентября.
Мать с дочерьми остались в Пушкине и ещё месяц жили под немцами. Кушать было нечего: все запасы, которые были в доме, съели. Вместе ходили в поля собирать картошку и турнепс. Бывало, наберут сумки, идут обратно, а немцы останавливали и отнимали. Когда доносили домой, когда – нет. Решили пешком идти в направлении на Вырицы, так как в Ленинград уже не прорваться, а далее до Жлобина, к родственникам. Если проследить родословную, то их бабушка сама была из Петербурга и вышла замуж за белоруса, когда ещё царь набирал себе уланов. После свадьбы он увёз её в Белоруссию, где и родились дети. Потом бабушка (у неё в Петербурге-Ленинграде был свой магазин, да и в Жлобине она тоже организовала своё дело) сказала своим сыновьям, чтобы они возвращались на работу в Ленинград. Сначала приехал старший брат, потом уже отец Любы. И они остались тут. Это были 30-е годы. Девочке Любе было шесть лет, когда они вернулись в Ленинград.
По пути в деревне Дно попросили ночлега, но женщина – хозяйка дома – ответила, что накормить их может, а оставить на ночь нет, так как у неё квартировал немец. Пока обедали, пришёл тот самый немец, и мать Любы рассказала, куда они идут. Оказалось, что он работает на железной дороге, и вместо брани и ненависти, сказал, что завтра посадит их на поезд, и они смогут проехать около 200 километров. А потом сходил на склад, где были маленькие квадратики хлеба, и дал им в дорогу. И ничего за это не попросил!
Семья Панковых доехала до Новосокольников и дальше пошла пешком. Днем шли, а к ночи у кого-то просились переночевать. И люди делились тем, что сами ели. Простая людская доброта! К декабрю 1941 года добрались до Жлобина – весь путь занял больше двух месяцев. Остановились у маминой сестры, тёти Даши. Там тоже были немцы. Они собирали молодых девушек и угоняли в Германию, поэтому приходилось прятаться по разным квартирам. Облавы бывали часто. Бабушка жила в Денисковичах, у неё там был дом, и они ночами пекли хлеб для партизан. Люба с сестрой просили, чтобы их тоже взяли в помощницы, так как невозможно сидеть без дела, но им отказали, поскольку и так много женщин, а нужны были ребята. Девушки понимали, что нужно идти воевать и как-то помогать фронту.
Однажды Любу и её подружку поймали во время облавы и согнали в лагерь для отправки в Германию. Вся территория лагеря была окружена забором с колючей проволокой и кругом охранники. Но выяснилось, что немцы очень боялись дизентерии и прочей заразы, поэтому туалет вынесли за ограду. Люба с подружкой пошли в туалет и затаились там. И Люба находчиво предложила подольше посидеть, а потом попробовать как-нибудь убежать. Подружка испугалась, что ее убьют и вернулась в лагерь, а Люба осталась сидеть в туалете. К вечеру, когда сменился постовой, Люба потихоньку вышла из туалета, натянула платок и примкнула к мимо идущим по тропинке 6-7 женщинам со словами: «Тётечки, заберите меня отсюда!» Одна женщина ответила: «Деточка, ты иди через одну и продвигайся вперёд, чтобы тебя не заметили, а там будь что будет!» Так девушка убежала из лагеря и вернулась в Жлобин.
Дом у тётки был большой, и там квартировали и чехи, и австрийцы, и немцы, и поляки. Австриец был хороший. Он пришёл к матери Любы и предложил пойти к нему работать на кухню. Она согласилась и стала чистить картошку, но срезала кожуру очень тонко. Австриец подошёл и сказал: «Ты чего неправильно режешь? Не так надо!» Взял нож и стал стругать толстыми кусками так, что от картофелины осталось меньше половины. «А эти обрезки бери домой!» – сказал. Так мать и работала на кухне и забирала, что оставалось, – на этом и выжили, так как больше питаться было нечем, огороды не посадишь. Немцы всё забирали, включая живность.
А поляк, напротив, был злой. Ему при призыве в немецкую армию, пообещали усадьбу, когда советские земли будут захвачены. А ничего не получилось! Русские дерутся, никуда никого не пропускают, их не сломить. Однажды он приказал Любе принести ему воды из колодца, а девушка ответила: «Холуёв у нас ещё в семнадцатом году отменили!» Он как стоял, так и оторопел, а потом схватил табуретку и запустил в Любу, – благо, девушка успела убежать за дверь.
Всю войну и самые тяжёлые минуты Люба провела рядом с мамой. Их отца призвали весной 1942 года, и он погиб, освобождая Киев. В 1943 году немцы стали собирать всех подряд – и молодых и пожилых женщин, – а кто посильнее, того сразу на работы в Германию. Люба с матерью попали на отправку, но, когда они проходили, то рядом увидели женщину с двумя детьми. Один из них был грудничком, и мать попросила эту женщину, чтобы та дала грудничка Любе. Благодаря этому Люба не попала в первую группу, которая отправлялась на работы в Германию. Их с матерью отправили в концентрационный лагерь Озаричи.
Была весна. Всё таяло, но было холодно и тесно. Много народу согнали в лагерь, и все, кто не поместились в здание, находились на улице. Узники в Озаричах пробыли не очень долго, где-то два-три месяца, но сильно промёрзли и в итоге Люба подхватила двустороннее воспаление лёгких, а мать – ревматизм, которым потом всю жизнь мучилась. Когда советские войска начали освобождать Жлобин, то освободили и Озаричи. К тому времени девушка уже была дистрофиком.
Когда шёл фронт, за каждой частью следовал эвакогоспиталь, в который с передовой привозили раненых, а оттуда уже сортировали: кого можно вылечить за пару недель – оставляли там, а тяжёлых отправляли в тыл. Любу забрали в эвакогоспиталь, выходили и поставили на ноги. Девушка стала оживать и помогать: кому письмо поможет написать, кому ещё что. Начальник госпиталя увидел, что у неё очень хороший почерк и предложил работу. Люба оформилась в эвакогоспиталь вольнонаёмной санитаркой и трудилась по 24 часа в сутки – раненые поступали постоянно.
Их везли машинами. Люба и ещё несколько девушек из Жлобина таскали раненых, снимали их с машин, разбирали. Люба оформляла документы: кто поступил, кого выписывают. В целом, работа санитарки подразумевала всё. Фронт продвигался, и девушкам приходилось в прямом смысле слова на себе передвигать и госпиталь, весь скарб, загружать-разгружать машины, вагоны. Днём ухаживали за ранеными, а вечером – брали винтовки и шли в караул, так как немцы ещё были близко. С этим госпиталем Люба прошла Белоруссию, Польшу и Германию. Дошла до Берлина, и есть фото, где она с сослуживцами стоит у входа в Рейхстаг, возле колонны, на которой они и расписались.
Безоговорочно и всегда верили в Победу! День Победы Любовь Александровна встретила в Германии. 24 дня, вплоть до 9 мая, санитары вообще не спали, ибо было столько раненых, что не успевали их принимать и отправлять. Привезут людей, только положишь, чуть присела, опять зовут! Шли по лестнице и спали на ходу. Раненых машинами возили без остановки, и после 9-го мая работа для Любы не закончилась. Она продолжалась, пока не закрылся госпиталь, когда был выписан последний раненый, – в декабре 1945-го года. Вернулась поездом Берлин-Москва, а далее – в Пушкин.
Любовь Александровна рассказывает, что многие немцы, с которыми ей приходилось сталкиваться в Берлине уже после войны, сетовали: «Я бы ни за что не пошёл на войну! Но что делать, когда гонят под страхом уничтожения семьи? Я – не нацист, мне не нужна эта война, но куда деваться!»
День Победы для семьи Елисовых – это праздник номер один! Боевых наград у Любови Александровны нет, так как она была вольнонаёмной. Но у нее есть медали: «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», медаль Жукова, медаль «Ветеран труда» и другие памятные награды.
Любовь Александровна работала в прокуратуре секретарём-машинисткой, откуда прокурор направил её на работу судебным исполнителем. После замужества и рождения троих детей Любовь Александровну перешла в адвокатуру, где отработала 32 года, до 82 лет.
#перерывнавойну #праздникномеродин #воспоминанияветеранов
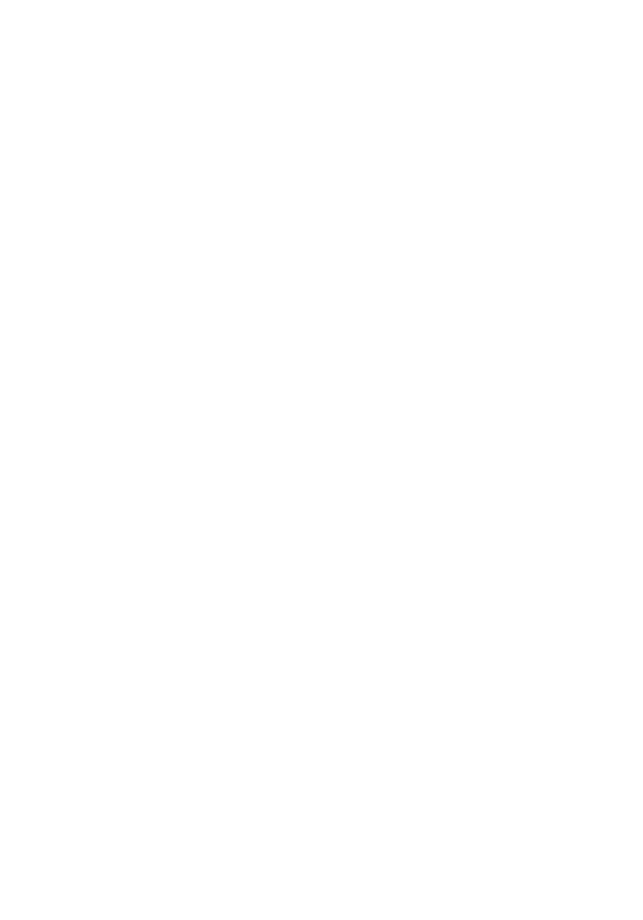
Родилась 20 июня 1926 года в одной из деревень Вологодской области. Мама была
беременна и поехала к папиным родителям отдыхать, там и родила меня. Там же
сделали запись в свидетельстве о рождении и крестили в церкви. Но всю жизнь прожила
в Ленинграде, на Петроградской стороне, у Сытного рынка, на улице Кропоткина. А с 1930
года мы жили на Чкаловском. В 1966 году нас переселили в Калининский район, на улицу
Карпинского, так как дом пострадал во время войны, и там была трещина.
У меня школа была чудесная. На Пионерской улице, в жилом доме. Окна выходили во
двор Типографического училища. Во дворе под аркой был вход в школу. С удовольствием
ходили на учебу. У нас детство было хорошее. Мы каждую неделю посещали Дворец
пионеров. Нам давали билеты, мы ходили туда на концерты, на танцы. Молодёжь,
школьники проводили время очень хорошо.
19 июня 1941 года, после 7 класса, я поступила в Фармацевтическое училище. Я, мама,
сестра и папа — мы выехали на дачу. Снимали дачу в Гатчинском районе, в деревне
Салези (ныне Котельниково). Мы там жили в 1938 году и снова вернулись. В воскресенье
пошли в лес погулять. Места там царские. А когда возвращались из леса, в посёлке был
репродуктор, объявили, что началась война. Родители сразу собрались, уехали в город, а
мама на следующий день за нами приехала. Вот так началась война. Мы вернулись. У
мамы было много детей, но все они умерли. Остались только мы с сестрой. Сестра
закончила медицинское училище, когда война началась.
Папе было 44 года, он 1897 года рождения. Работал в больнице Р. Р. Вредена, это
напротив Петропавловской крепости. Он там и до Финской войны был столяром-
плотником. Всю войну проработал. А мама была домохозяйкой.
С первого сентября я пошла на учёбу на Петроградской. Татарский переулок. Там и
сейчас то училище есть. Два здания было, куда в середине сентября попала бомба. Наши
занятия прекратились, сказали через месяц прийти за документами. Учёбы не было.
Родственница работала в парикмахерской, и она сказала, что у них принимают учеников.
Здесь, на Большой Зелениной, дом 16, была парикмахерская. И туда меня взяли
ученицей. Две недели практиковалась, тогда вся аппаратура была ручная: машинка и
опасная бритва. Работала вплоть до Нового года. Света не было, воды — тоже. Мы без
работы остались.
С осени те, у кого было много денег, стали всё скупать. Чтобы их ограничить, ввели
карточки. На углу Большого проспекта и Введенской улицы был крупный гастроном. В нем
сразу всё стало дороже, но можно было купить. Моя мама туда ходила. Какие деньги
были, на них покупала хлеб, резала мелко, сушила сухари и от нас прятала. Потому что
знала, что голод неминуем. Она жила здесь и до революции вместе с сёстрами. Пережив
голод в 1919 году, она знала, что это такое. Хряпу и сухарики она прятала в сундуке,
закрывала его на ключ. Но мы никуда не лазили никогда. Она нам потихонечку выдавала.
Щи постные варила.
Нельзя было без карточной системы. Трудно стало, когда перекрыли нам подвоз. 125
грамм — это очень мало. Сейчас я, наверное, и сто грамм не съедаю, а тогда молодые
были. Народ города пережил всё.
Самыми страшными были обстрелы с осени. Наша квартира находилась на первом
этаже, окна выходили во двор, и, когда объявляли воздушную тревогу — все соседи с
шести этажей шли не в бомбоубежище, а к нам. У нас был большой коридор, туда
приходили женщины с детьми, а бомбоубежище было в доме с Гатчинской, но туда никто
не шёл. В сентябре у нас упали три бомбы. Где сейчас школа 51-я, здесь было культовое
здание, там — ремесленное училище. Тут проживали ребята. Туда попала бомба. Вторая
— в угол напротив. Третья — туда, где дом большой был, номер 9, сейчас 13. От него
остались только наружные стены. А угол напротив метро — оторвало только угол. Там
жил вместе с мамой наш ученик со школы. Мама была больна, а он в тот момент убежал
к другу. Так как у дома оторвало угол, то мама вместе с кроватью повисла в воздухе, но
её спасли. А потом начались обстрелы. Где была типография «Печатный двор», угол
Ораниенбаумской, туда попал снаряд, и он горел месяца 2-3. Сгорели все этажи, кроме
первого.
В декабре 1941 года перестали выдавать продукты. Карточки были, а провиант
отсутствовал. В нашем доме находился маленький молочный магазин, мы там получали
продовольствие. Последние десять дней перед Новым годом с улицы не уходили, стояли
в очереди за продуктами, когда привезут. Одна уходила, другая оставалась, грелись,
потом прибегали. На Новый год нам все карточки отоварили. Это у нас был праздник.
У нас дом был на углу с Гатчинской и Лахтинской улицами. В феврале произошел случай:
двор был один, посередине стояло здание прачечной. Половина прачки — наш
жилищный отдел, половина — ясли (от типографии «Печатный двор»). За водой мы
ездили на Газовую улицу, почти у Карповки. Мама говорит: «Возьми бочечку с санками,
привезёшь воды». А я говорю: «Я одна не поеду, потому что там очень сложно набирать
воду. Наберёшь — нужно подняться в гору, а там скользко. Поскользнёшься, упадёшь,
воду на себя выльешь». И мы с мамой поехали за водой. Только доехали до улицы
Ленина, повернули к Газовой — и начался обстрел. Очень страшно. Мы практически
остались с этой бочкой пустой на пересечении улиц Газовой, Ленина и Левашовского
проспекта. Тут стояла школа, там госпиталь был. Долго обстрел продолжался, я очень
испугалась и побежала в дом, где квартира Ленина, мама за мной. Переждали, вернулись
к своей бочке, набрали воды и поехали домой. Въезжаем во двор, а над прачечной
только разорвался снаряд. Не осталось ни одного стекла в обоих домах. И стенка у яслей
отвалилась. Прачку увезли в больницу — её контузило. Так я практически маму спасла,
потому что я её увезла.
А мама спасла нас всех. Не только нашу семью, но и своих родственников. Здесь на
Петроградской жили две её сестры, два брата. Осенью 1941 года, в сентябре, она ездила
на огород в совхоз Ручьи, за больницей Мечникова, собирала зелёные листья от капусты
— кочаны уже все были срезаны. Привозила домой, перемывала и рубила. Это
называлось «зелёная хряпа». Тем нас всех и спасла. Из всех родственников у нас умер
только муж маминой сестры. И один мамин брат погиб на фронте, молодой был. А
остальные потихонечку пережили.
Но сколько людей погибло! На Чкаловском проспекте дом был, весь разбомбленный. В
скверике сарай стоял, туда все трупы свозили из квартир, из домов, потом на кладбище.
В основном на Серафимовское. Зимой, весной. Мы хоронили мужа маминой сестры в
феврале. Приехали на кладбище, вернее, пешком пришли. При входе на кладбище были
вырыты траншеи. Там, на небольшом кусочке земли, трупы лежали голые, как дрова. Не
успевали рыть. Потом уже рыли за кладбищем, у церкви.
До весны трамваи не пускали, везде пешком ходили. Мы все были больны цингой. Из-за
нее я и зубы все потеряла. Лечилась позже, в 1944 году, в поликлинику ходила: что
полечили, что удалили. Лекарств не было. Весной по нашему адресу появилась доктор-
терапевт. Она жила на Гатчинской улице. Знала всех своих больных. Война закончилась,
она ещё работала. Каждую семью знала: кто здоров, кто болен. Эта женщина-врач была
удивительная.
Когда началась весна, появилось солнышко, нам добавили продукты, хлеб по карточкам.
Все радовались. Потом уже открылся кинотеатр «Молния», и мы ходили в кино. Гулять
выходили. Траву собирали. Многие из нашего двора умерли: девочки, ребята.
Так как моя сестра работала в Военно-воздушной академии на улице Красного Курсанта,
нас туда приглашали, но официально мы не устроились. Приглашала сестра, пропуск
выписывали. Кого побрить, кого подстричь. До марта месяца. А в марте 1942 года
открывали новую парикмахерскую на улице Максима Горького, напротив Зоологического
сада. Там я и работала. Потом меня заведующий перевел в парикмахерскую на улицу
Мира.
Когда открылись парикмахерские, сразу пошли клиенты: дети, взрослые — все вшивые.
Воду грели на керогазе. Работать было сложно. Приходилось снимать доски, которыми
забивались окна. Ленинградцы пережили очень тяжёлую зиму. Только потом полегче
стало.
В августе 1942 года у меня случился приступ аппендицита. Сделали операцию и после
этого перевели в цех работать секретарём. Тогда же карточная система была. Я
оформляла всякие документы на рабочих. Выдавала продуктовые карточки.
А в 1943 году нас забрали на завод «Большевик». Я была несовершеннолетней и месяца
3-4 работала уборщицей в общежитии у ребят. А потом меня поставили работать
грузчиком. С завода не хотелось увольняться, люди там были добрые. Они же войну
пережили. Сейчас сложнее. Время другое.
В 1943–1944 годах уже было легче, мы же чувствовали, что освобождают территорию
нашу. Как только стало можно, тогда и веселились, и в кино ходили, и театры
открывались. Когда работала на заводе «Большевик», к нам приходили капельдинеры с
билетами, мы брали на оперу, на балет. Билеты были дешёвые. Это сейчас они очень
дорогие. Тогда уже музыкальные концерты были. При заводе был Дом Культуры им.
Ленина, туда знаменитые артисты приезжали. Оперный певец — Середа. Хватало сил и
на танцы.
27 января, когда блокаду сняли, конечно, было очень радостно. Услышали по радио. Мы,
разумеется, ждали. Окольными путями нам и продукты доставляли, как только можно. В
городе с продовольствием было очень плохо. А когда блокаду сняли, совсем стало по-
другому.
Мы перевозили строительные товары, чтобы восстанавливать город. На Лиговский, за
Московским вокзалом. Не знаю, почему именно этот дом. Как только сняли блокаду, сразу
стали восстанавливать дома. Прекратились обстрелы. Все, кто мог, потихонечку
работали.
Мы ездили на машинах, собирали металлолом по окраинам, привозили на завод доски,
цемент. Работали сутками. Двое суток работаешь, третьи сутки — выходной. Никогда не
обижались. Двое суток отработаешь, дают дополнительные талончики. В буфете давали
покушать и кофе, или чай. Как-то быстро всё восстанавливалось. Разбитых домов было
очень много. Но потихонечку залечивались раны.
Никто не сомневался в нашей победе. А в конце войны прямо каждый день ждали, что
сегодня-завтра война закончится. Объявили девятого мая утром, что подписали Акт о
капитуляции. Тогда Жуков руководил этим процессом. Все очень любили генералов.
Когда уже был Хрущёв, его незаслуженно принизили. Все наши маршалы поработали во
время войны здорово.
День победы помню. Я работала на заводе «Большевик». Все карточки и талоны в сейфе
хранила. Узнала рано, шести утра ещё не было. На трамвае приехала. Тогда давали
дополнительные талоны в столовую всем рабочим, завтракали — всем по сто грамм.
Просто было ликование. Была такая радость, что всё это кончилось.
В Ленинграде была карточная система до 1947 года. Я работала до июля 1947 года на
заводе «Большевик». Уже была замужем, дочка у меня появилась — и я уволилась.
Перед Новым годом, когда отменили карточную систему, у меня был маленький ребёнок
и сто рублей. И тут случилась девальвация. И вместо ста рублей у меня стало десять.
Надо идти работать. Начальник цеха на заводе «Большевик», когда уходил в другое
место, оставил свои реквизиты и сказал, если будет трудно — звонить.
Мама не работала, я не работала. Вот я и пришла — а он меня устроил на завод Карла
Либкнехта. Но там я недолго работала. Ребёнок маленький, в ясли ещё не ходил. Мама
стала капризничать, что не будет сидеть. Мне пришлось уволиться с завода. Потом я
работала в ясельках, вместе с ребёнком, на Петроградской.
Сестра всю войну медсестрой в госпитале проработала. В 1964 году она умерла от рака
желудка, рано, ей было 44 года, папа получил травму — упал с дерева — и умер в 1950
году. Мама в 80 лет умерла.
Сейчас моей дочери 73 года, она тридцать пять лет отработала заведующей детским
садом. Внучке будет 50 лет, она закончила сначала торговое училище, потом
педагогическое и работает в детском саду. И два правнука: одному 26 лет, работает в
ресторане, только закончил институт, а второй — конькобежец, учится в университете
имени П. Ф. Лесгафта.
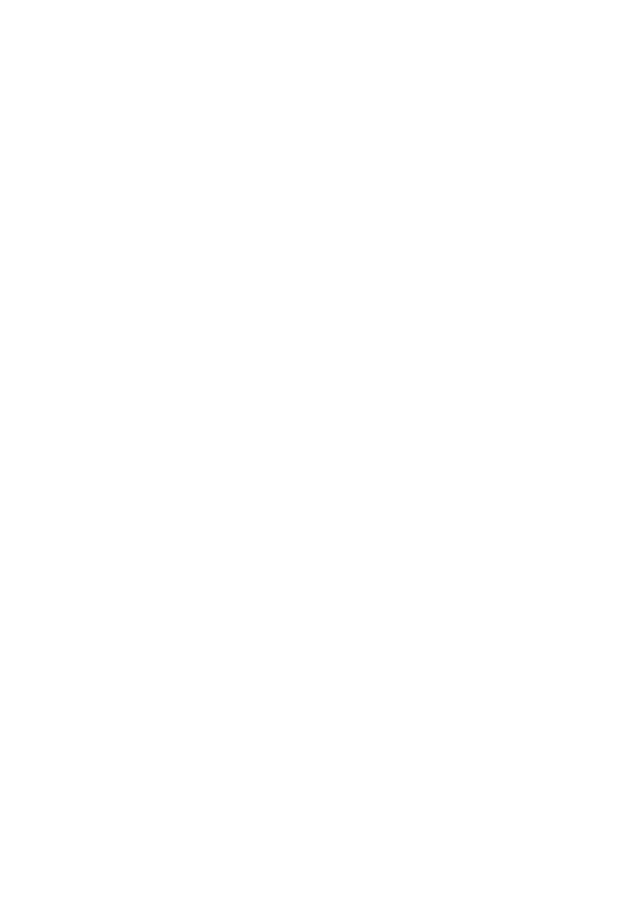
Василию Максимовичу Клочкову, ветерану Великой Отечественной войны, 95 лет,
он живёт в Калининском районе Санкт-Петербурга, любит заниматься огородом,
читать газеты, смотреть новости и рассказывать про войну. А на момент начала
Великой Отечественной войны ему было всего 16 лет.
Жил он вместе с семьёй в Калининской области (ныне Тверской), где большая
часть мужского населения и женщин, не обременённых хозяйством, работали в
пяти километрах от деревни на заготовке кормов для скота. Типичный тяжёлый
изнурительный труд колхозника.
До начала войны Василий Максимович успел закончить 8 классов средней школы
в районном центре в Киверичах. Это была единственная школа Теблешского
района Калининской области. Находилась она в десятках километров от дома, и
приходилось снимать жильё в чужих частных домах. Не каждая хозяйка такого
дома соглашалась готовить для учащихся, поэтому отец привозил сыну продукты
натурального хозяйства. В доме у хозяйки снимали угол три человека: сам
Василий из деревни Житищи и двое из села Моркины горы. При этом все условия
для нормальной учёбы были.
О начале войны вспоминает, как об обычном жарком летнем дне. Все занимались
своими привычными делами: кто на ферме, кто в поле, кто по хозяйству. А около
11 часов утра 22 июня 1941-го года по радиоточке громогласный голос Левитана
объявил экстренное сообщение о нападении немецких захватчиков на нашу
страну. Все стояли в оцепенении и молча слушали. Каждый думал о страшной
беде. После трагического известия место перед радиоточкой опустело - люди
возвращались домой, чтобы осознать масштаб бедствия и подумать о будущем. К
этому времени уже бомбили первые города и сёла, гибли люди - война же
началась уже в 4 часа утра...
5-го июля 1941 года отца и братьев отца погрузили на обозы, оттуда в районный
центр и — на фронт. Больше Василий Максимович отца не видел: он был
объявлен пропавшим без вести. Юный Василий посещал школу и одновременно
обучался военному мастерству — линия фронта находилась недалеко.
Приходилось хоронить погибших лётчиков, патрулировать территорию — по
заданию военкомата это регулярно делали 10-12 человек. Хоронили как военных,
так и гражданских. Обучались владению оружием.
С 21 апреля по 11 августа 1943 года Василий Максимович находился в
миномётной роте Владимирского пехотного училища. Откуда он и прибыл на
службу в 184-ю стрелковую дивизию, а затем в 294-й стрелковый полк. Так
начался его тяжёлый боевой путь, в ходе которого удалось принять участие в
сражениях в Смоленской области и в Белоруссии (Витебская область), а также в
освобождении территории Польши в направлении к Восточной Пруссии. 12 июня
1944-го года Василий Максимович прибыл в часть, где вновь сформировался
1291-й стрелковый полк и 110-я стрелковая дивизия. 24 июня они уже
форсировали Днепр, 25 июня — реку Березина, 29 июня уже перешли советскую
старую границу и вступили на территорию Западной Белоруссии. Преследование
врага было таким стремительным, что с 11 июля 1944 года их частям удалось
подойти близко к логову фашизма в Восточной Пруссии. 27 июля 1944 года
Василий Максимович попадает в другую часть во время боя за гору Сокулки и
северо-западные горы Сокулки в 35 км от Восточной Пруссии, а 7 августа 1944
года получает тяжёлое ранение. С ранением его боевая жизнь закончилась и он
потерял возможность быть полноценным бойцом армии. Осколки в лёгких так и
остались навсегда.
Вера в победу была всегда. Сомнений в этом не было. Потому что были молоды,
думали о семье, о будущем каждый день. Встретил Василий Максимович Победу
в Калининском военном училище города Саранска, куда был распределен после
ранения — в звании сержанта.
Василий Максимович имеет множество наград много, но самая ценная для него -
это медаль «За отвагу», которую ему вручили в 1956-м году. Кроме того, на 70-
летие Победы ему была вручена медаль в память об освобождении территории
Белоруссии.
А внучка Мария на 75-летие Победы написала для любимого дедушки
стихотворение:
С годовщиной Великой Победы,
Уже семьдесят пятой по счёту,
Поздравляем Великого Деда,
Он сражался за нашу свободу!
Правдоруб, настоящий, бесстрашный
Пережил и лишенья, и горе.
Продолжает движение дальше,
Силой духа он не обездолен.
⠀
В девяносто пять смел он и бодр,
Про него и не вспомнила старость.
За удачный её недосмотр
Шесть бокалов поднять нам осталось.
В стихотворении упоминается шесть бокалов, поскольку семья Василия
Максимовича состоит из шести человек: сын Александр с женой Натальей, дочь
Татьяна, внучка Мария и ее муж Андрей.
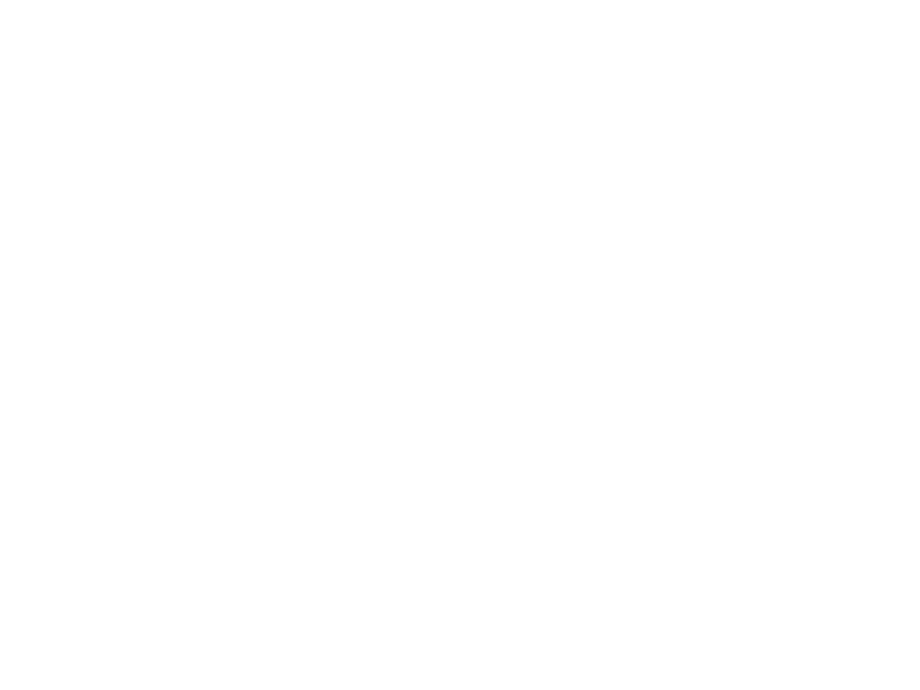
«Дяденька солдат, не видел ли ты моего папу?»
Родилась я 11 ноября 1932 года в Мордовской АССР, это Горьковская область, в деревне Дербышево. До революции у нас было много земли, родственники занимались сельским хозяйством. А потом родители в колхоз пошли.
Мать, Анастасия Григорьевна, родилась 29 октября 1902 года, была портнихой. Отец, Павел Иванович, родился 23 декабря 1902 года, и 28 августа 1941 года его забрали на фронт, он там был пулеметчиком. Через два дня после этого родилась моя младшая сестрёнка Мария. В семье нас было шестеро детей, но мать никого из нас в обиду не давала. И вот, когда мне было 11 лет, я нянчила свою маленькую сестричку, пока мама в колхозе работала. Пеленок тогда не было, ухаживать было тяжело, но я справлялась.
Сама я была пятым ребенком в семье. Первым ребенком был Василий, но он умер в три года. Вторым ребёнком была сестра Анна, родилась она в 1925 году. Потом брат Алексей, он 1928 года. Затем брат Борис — 1930 года. Потом, в 1932 году, родилась я. В 1938 году родился братик Александр. Ну и в 1941 году моя сестричка Мария. Ещё после войны у нас родилась сестра Антонина, но это уже в 1947 году. Мама ещё тогда стеснялась беременности, но соседка ей говорила: «Ну что ты, муж под боком, ничего страшного!». Потом ей старший брат мой ещё говорил, чтобы не переживала, что ребёнка мы вырастим.
Дядя Матвей и дядя Андрей ходили на работу на завод. И вот как-то Андрей пришёл, а Матвей сидит. Ну он ему и говорит: «Ты что тут расселся и сидишь, пора работать, а ты сидишь, спишь!» А оказалось, что он умер...
Все взрослые здоровые мужики ушли на фронт. А сельское хозяйство просто так не оставишь, надо было собирать урожаи. Вот все в колхозах и работали. Мой старший брат тогда считался уже взрослым мужиком. Он окончил пять классов да пошёл работать, уже надо было.
Во время войны всех хороших лошадей забрали на фронт, в колхозе остались одни больные клячи, да и те потом померли. На чем пахать? Вот женщины на себе и таскали все. Через года два только подросли бычки, но они такие упертые были: встанут и стоят, с места их не сдвинешь.
Помню, как сосед Васька прибежал: сам рыдает, говорит, что бык не идёт, стоит и всё. Ну, мой брат Алексей взял кнут и пошёл. Оказалось, что он приучил быка к матерной ругани. Так он пару раз обматерил быка хорошенько, так тот и пошёл сразу. Голос-то мужской был, это уже другое.
Питались мы в войну своей едой, так что в войну не голодали. У нас было 250 соток, там мы и картошку сажали, и огурцы, и капусту, в общем, что получалось посадить, то и сажали. Свой участок мы обрабатывали, когда свободное время было. Сначала ведь обязательно в колхозе надо было отработать, только потом свободен. Была у нас корова, поросеночка даже выращивали, курицы по двору бегали. Государству необходимо было сдавать полпуда масла топленого и молока литра три-четыре, да соток яиц и хлеб ещё. Так что мы яйца не ели: либо государству отдавали, либо на рынке продавали. А корова у нас была не очень молочная, но соседи иногда за нас молоко сдавали, а в другой раз мы что-то за них. В праздники тоже друг другу помогали, носили что-то, угощали, подкармливали.
Пока была школа, у нас было военное дело. Нас научили перевязывать, швы накладывать, маршировать, винтовки разбирать, противогазом пользоваться — немцы ведь ещё в Первую Мировую войну химические газы всякие применяли. Помню, что в 1942 году нашу школу сожгли, это диверсия была. А как школу сожгли, мы больше и не учились. Ну а потом мы все пошли работать.
У нас была интернациональная область — татарочки, мордовочки, русские, все-все были, каждый по-своему говорил, но русский язык знали все.
Мои старшая сестра и мама научили меня вязать, а потом мне дали клубок шерстяных ниток. Вот я и вязала носки да варежки для солдат. В любое свободное время вязать приходилось. Так что детства у меня не было. А так хотелось в мячик поиграть или ещё во что, но нельзя — государство требовало помощь солдатам. А если вязать не умеешь или не можешь, то дополнительные трудодни давали.
Во время войны семьи оставались в основном большие, по 5-6 детей, а то и больше. Отцы на войне, а матери всех тянули в одиночку. Вот женщина с другой деревни вспоминала, что она так уставала сильно, что, когда приходила домой, просто считала количество детей и всё, по именам уже было сложно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вроде все на месте, а свой али чужой — не важно. Но вырастила всех.
Однажды к нам пришла женщина, у которой пятеро сыновей было да три дочери. И вот пришла да говорит, что у сынишки штаны прохудились на коленках, а заплатки-то и нет. Мать моя нашла ей заплатки, помогла. После войны муж этой женщины живым вернулся, но остался без руки. А так во время войны новой одежды достать было практически невозможно. Помню, что привезли в магазин вафельные полотенца, так мама моя сшила из них рубашки братьям. А так ничего не было. Очень редко, если что-то появлялось, но купить не на что было. Если только хлеб на одежду поменяешь.
Сама я во время войны еще маленькая была, так что в колхозе я не косила, в отличие от моих старших братьев и сестры. Я выполняла мелкую работу, что-то относила, сено сгребала, грядки полола, серпом жала. Мы все так работали. А картошку копали все, так как короткий срок был на ее сбор. Успеть надо было, пока погода хорошая.
Мой отец дошел до Берлина и вернулся домой через четыре года в сентябре 1945 года. Служил он в Белоруссии, рядом с Бобруйском. Во время войны его туда же на фронт и отправили. Рассказывал, что когда немцы оккупировали город, то многие мирные жители их хлебом с солью встречали. А потом немцы сожгли весь город. Бои были ужасные. Постоянное отступление было. Один местный житель рассказал отцу, как немцы вырыли огромный ров, всех жителей туда притащили да всех их и расстреляли, кого убили, а кого нет. Потом они этот ров засыпали землей и бульдозерами проехались, чтобы умять землю. Так потом ещё два дня земля шевелилась, видимо, некоторые люди были живы…
Но в конце войны бои были уже наступательные. И советские войска снова въехали в Бобруйск. Немцев далеко отогнали. Случилась небольшая передышка. Отец пошел к реке искупаться да постираться. А когда начал отжимать гимнастерку, то она у него в руках и развалилась. Истлела на плечах гимнастёрка, ведь наступления постоянные были, шли по многу километров.
Отец мой был инструктором, ребят бои вести учил. И вот однажды они идут куда-то вперед, а там пробка из машин образовалась, они и остановились — стоят, ждут. Тут к нему подбегает солдат, заикается, плохо разговаривает. Отец понял, что парнишка-то контуженный, он его давай успокаивать, обнимать. А парень и говорит: «Павел Иванович! Спасибо, спасибо тебе!». Отец не понимает: «За что спасибо то?». А он продолжает: «Спасибо, что научил вести круговой бой. Была у нас высотка, все ребята погибли, я один остался. Так я от одного пулемета к другому бегал и в немцев стрелял по кругу. Так я и спасся, правда вот контуженный остался».
Был ещё случай. Собрали их роту, в бой надо было идти. А уже отсюда были слышны залпы орудий и перестрелок. Солдат перед боем помыли, дали чистое белье, очень хорошо накормили, налили каждому фронтовых сто грамм. А почему? Покойников-то перед смертью моют. А они в лесу тогда были, отец сделал себе шалаш, чтобы там отдохнуть можно было. Вот и стал ждать своей очереди. Раз машина уехала, еще одна уехала. И так полдня уже прошло, а он лежит. Потом пошёл к командиру, спрашивает, не забыли ли о нем. А командир ему и говорит: «А ты, Кондрашкин, иди пообедай, отдохни и жди». Отец сходил поел и снова ждать. Опять не вызывают, уже почти всех увезли, а он, считай, один остался. Снова пошел к командиру, там ему сказали, что его вызывают к главнокомандующему. И вот после этого он стал инструктором. Он потом 30 героев Советского Союза воспитал.
Во время войны зимой станковые пулеметы, которые были на колесах, тонули в снегу. Так мой отец соорудил санки специальные, типа лыж, чтобы возить эти пулеметы нормально. Вот такое изобретение у него было! Даже по болотам потом на этих санках пулеметы возили.
Недалеко от нас был город Саров. Там был военный завод, там боеголовки для Катюш делали. Там ещё оружие испытывали — в округе все деревья были отравлены, вязы стояли поникшие. У меня там старшая сестра потом работала в столовой, правда, уже в 1946 году. Отбор на работу туда был жесткий как и дисциплина. Опаздывать было нельзя, сразу разборки. Был такой случай — набрали новых ребят на работу. И вот двое новеньких пришли, смотрят: тут дверь закрыта, сюда заходить нельзя, а интересно же было, что там, вот дверь и открыли. Хапанули они тогда много радиации. Их сразу в госпиталь, ведро молока им, мол, пейте. В итоге, к утру они оба умерли.
Помню, как мы папу провожали — тогда все деревенские на фронт уходили. Мама сидит на телеге и говорит: «Наденька, иди в огород, а то Кондровские ребята все подсолнухи поломают». Я пошла, а в душе у меня защемило, я сама себе и сказала: «Долго-долго папу не увижу». С этими мыслями и пошла, телега тронулась, папа ушел. Моя старшая сестра каждый вечер перед сном Богу молилась, просила, чтобы пуля папу не задела, чтобы домой вернулся. А когда отец вернулся, то рассказывал: «Только я закрою глаза, как видится мне плачущая Анна да голос её слышится». Постоянно ему такие сны снились.
Когда был День Победы, мы пошли в школу. Весна поздняя тогда была, снег ещё лежал. Так вот, пришли мы в школу, а учительница провела с нами беседу и домой отпустила. В честь Победы выходной нам сделала. Потом стали солдаты в деревни возвращаться. Вот идёт какой-нибудь солдат, а ты кричишь ему: «Дяденька солдат, не видел ли ты моего папу?». А он отвечает: «Видел-видел, придёт скоро, жди». А мы, дети, наивные были. Конечно, кто получил похоронки, те и не спрашивали. Но так вспоминаешь — это было не детство, а ужас какой-то…
После войны Надежда Павловна приехала в Ленинград, встретила тут своего будущего супруга, Павла Ивановича Семенова, с которым они счастливо живут в браке и по сей день. У них сын, двое внуков и уже трое правнуков.
#дети_войны #воспоминания_о_родителях
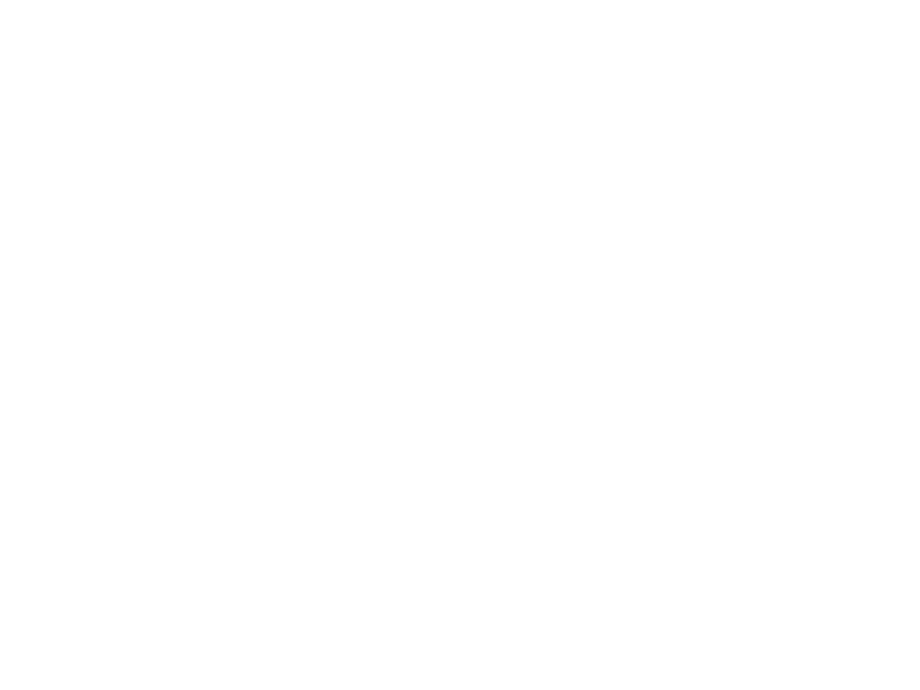
Зубарева Евгения Фёдоровна — заслуженный врач РФ, много лет занимала руководящие посты в управлении здравоохранением. У неё стильная шляпа, большие очки и добрая улыбка.
Евгения Фёдоровна родилась 5 января 1929 года в небольшой деревне Новгородской области. Кроме неё в семье были ещё две старшие сестры. В Ленинград семья перебралась в 1932 году после ссылки родителей и сестёр в Сибирь. Сыновья деда Евгении Фёдоровны, Захара Ивановича, занимались кожаным делом, и их раскулачили.
В Ленинграде семья договорилась с управдомом, и он выделил им большую комнату: примерно тридцать метров в подвальном помещении на Коломенской улице.
Когда началась война, старшая сестра уже закончила 10 классов, средняя — 7 классов, а Женечка перешла в 4-й класс. Семья проводила лето в деревне Низовке. Никто не взял с собой тёплые вещи, поэтому в конце июля пришлось вернуться в город. К этому времени в Ленинграде уже появились карточки и стало понятно, что будут проблемы с питанием. Они хотели вернуться обратно в сентябре, но не успели.
Первые и самые тяжёлые шесть месяцев блокады, как вспоминает Евгения Фёдоровна, они прожили в осаждённом Ленинграде. Женя и средняя сестра пошли в школу, а старшая — на курсы медсестёр, чтобы потом уйти на фронт. Сентябрь и половину октября 1941 года ещё не было так страшно: отоваривали карточки, ходили в кино, с деньгами стало проще — люди меньше покупали продуктов. Была вроде как обычная жизнь, но ситуация с едой ухудшалась с каждым днём: менялся ассортимент, качество и количество хлебного пайка. Мама ездила в пригород, выкапывала остатки мороженого картофеля, а когда сгорели Бадаевские склады, родители собирали там горелые бобы. Выкручивались как могли.
В ноябре-декабре 1941 года школу разбомбили, а медицинские курсы закрылись. Началось самое холодное и голодное время. Дети не могли ходить в школу, отец перестал работать — все начали слабеть от голода. Вода замёрзла, и приходилось за ней ходить на Фонтанку в 30-40 градусов мороза. У Жени была меховая шапка с длинными ушами, и когда мама с сестрой замечали, что у девочки нос побелел от холода, начинали оттирать его мехом, пытаясь согреть. Воды хватало только на еду, бани не работали, поэтому помыться было невозможно.
— Я не знаю, как мы всё это пережили. Сейчас даже трудно представить. Нас спасли родители. Они делали всё, чтобы как-то нас поддержать. Самое главное: у нас было тепло — печка и плита.
У многих тогда не было печек, а у других дров — и они просто замерзали. Но отец Евгении Фёдоровны ещё летом заготовил дрова с большим запасом. К тому же они жили в полуподвальном помещении, и им не приходилось бегать в бомбоубежище, так что, по блокадным меркам, условия жизни были «выше среднего». Поэтому семья смогла приютить у себя мамину сестру с маленькой дочкой. Евгения Фёдоровна вспоминает, что мама всегда старалась приготовить какую-то похлёбку: добавить немного крупы, сварить жмых, который считался деликатесом, ремень.
Символом же блокады для Евгении Федоровны стала Людочка — та самая дочь маминой сестры. Полуторагодовалая малышка обычно сидела у них в комнате на сундуке рядом с печкой. Рядом с ней торцом к стене стояли два шкафа, где хранились скудные запасы съестного. Голодная кроха целыми днями тянула ручонки в сторону шкафа с жалобными просьбами: «Няй-няй-няй», поскольку не могла ещё выговорить слово «дай». На эту трогательную сцену невозможно было смотреть без слёз — умирающий город и невинное дитя, помочь которому взрослые были не в силах. Ей всегда старались что-то дать, и она собирала потом крошки с сундука, съедая все до последней. Но что удивительно — если дать было совсем нечего, то девочка не плакала.
— Наверное, ребёнок понимал, что не от жадности, а действительно нечего… А она — маленькое, голодное, беззащитное существо… И мы вроде бы все большие, но не можем ей помочь, — голос Евгении Николаевны дрожит.
В феврале 1942 года благодаря Дороге Жизни к порции прибавили сто грамм. Это было лучше, но всё равно мало, да и хлеб был ужасный: сыроватый, тяжёлый, со всякими примесями. Но всё равно это был хлеб.
— Сколько раз приходилось видеть в очереди за хлебом, как подростки, бедные, голодные, иногда прямо из рук выхватывали паёк и бежали...
У дяди Евгении, Семёна, была дочь, а её муж был кадровым военным. Он и помог семье Евгении Фёдоровны эвакуироваться. 26 февраля 1942 года они сели в машину на Дворцовой площади, а потом поехали через Ладогу на грузовике. Колёса проваливались, кругом летали снаряды. Машина, которая была впереди, ушла под лёд. Евгения вспоминает, что в Волхове их накормили пшённой кашей с хлебом и булкой:
— Естественно, наелись больше, чем можно было, и после этого маялись не один день. Ни желудок, ни кишечник выдержать не могли. Но с тех пор мы больше вообще голода не знали, — подчёркивает Евгения Николаевна.
По документам, семью эвакуировали в Пермь, но они, договорившись, отправились в родную Новгородскую область. До станции Мга ехали в теплушках без всяких удобств, вагоны битком. Самым мучительным было сходить в туалет. Поезд останавливался без предупреждения, а люди боялись уходить далеко, потому что неизвестно, когда состав снова тронется.
— Это было совершенно мучительно, — категорично отзывается о поездке Евгения Николаевна.
На одной из станций мама со старшей сестрой вышли, надеясь купить еду. Поезд двинулся, оставив их. Семья воссоединилась лишь позже. Евгения помнит, что до Низовки ехали сорок километров на лошадях.
В небольшой деревне на 16 домов голода не знали — работали. Во всех домах были коровы, овцы, поросята, куры. Евгения с сестрой нарабатывали трудодни, мама за это получала зерно. Ходили в школу за семь километров. Старшая сестра начала работать учительницей в младших классах.
— Это же не только война была. Была и жизнь: мы учились, работали, жили, влюблялись, на танцы ходили, — вдруг говорит Евгения Николаевна, рассказывая о знакомстве своей старшей сестры с лётчиком — будущим мужем.
Евгения Николаевна подчёркивает: за время блокады ни разу никто из них не думал о том, что город сдадут или проиграют войну. Даже в мыслях не было.
Семья ужасно скучала по городу, мечтала вернуться. И это случилось, наконец, в августе 1945 года. Прошлая их квартира оказалась заброшена: вода, сырость, плесень, поэтому жилконтора предоставила семье две маленькие комнаты на первом этаже в этом же доме.
Евгения Фёдоровна закончила школу для девочек на площади Восстания, где после уроков русского и литературы влюбилась в филологию. Серебряная медаль давала возможность поступить без экзаменов в институт, и она поступила в Первый медицинский институт на терапевта и закончила его с отличием. Всю свою жизнь Евгения Фёдоровна посвятила медицине, за свои заслуги удостоена звания “Заслуженный врач РФ”. У неё большая семья — двое детей, четверо внуков и уже два правнука.
#блокада
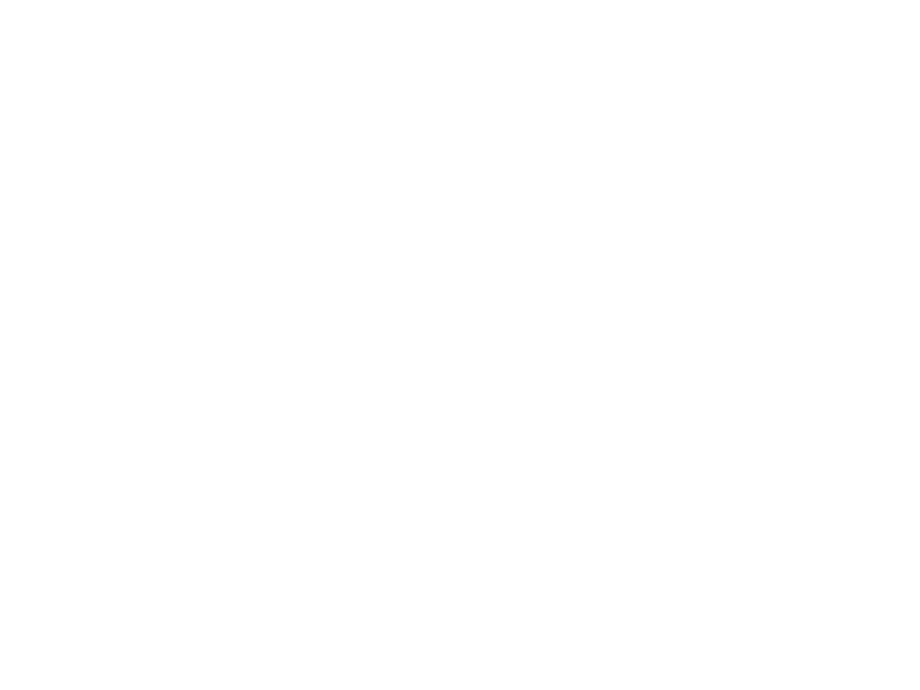
Клавдия Ивановна Румянцева — жительница блокадного Ленинграда. Всю войну она провела в осаждённом городе и работала в банке. На это тяжёлое время пришлись у неё и юношеская светлая любовь, и горечь от потери поклонника, и встреча с будущим мужем.
Клавдия Ивановна Румянцева (до замужества Грошева) родилась в 1925 году и до начала войны успела окончить 8 классов школы. В 1942 году её подруга услышала о наборе на курсы для работы в банке и позвала с собой Клавдию. Мужчины ушли на фронт, поэтому требовались новые служащие. Сотрудники банка по рупору объявляли, кого они взяли на курсы. Клавдия Ивановна до сих пор удивляется, что отбирали не по документам, а по фамилиям. Забавный факт, но на курсы попали девушки с фамилиями, связанными с деньгами: Баулина, Грошева, Копейкина. Подруга Клавдии, несмотря на то, что имела 10 классов образования, не прошла, чему очень расстроилась. Клавдия Ивановна же успешно окончила курсы, которые предопределили в дальнейшем и её будущую профессию: вся её работа была связана с финансами и бухгалтерией. Также Клава была призвана на всеобуч, где она изучала винтовку, пулемёт Дегтярева и даже минёрное дело.
Семья у девушки была небольшая: брат Василий, мама Анастасия Васильевна и папа Иван Петрович. Отец вернулся с Первой Мировой войны с большим количеством ранений, поэтому он не подлежал призыву по состоянию здоровья. Брат Василий перед войной попал в школу лётчиков и отправился воевать в авиационный полк. Клавдия вместе с родителями всю блокаду провела в Ленинграде, и они все остались живы – во многом благодаря маме. Анастасия Васильевна по совету знакомой приятельницы, Екатерины Павловны, устроилась до войны работать в научную часть Ленинградского зоопарка. Оттуда она часто приносила семечки, которые помогли семье выжить. Но главное, что весной 1942 года ей, как работнице зоопарка, на его территории дали грядку, где мама посадила огурцы и лук. Такие огороды были разбиты по всему городу. «Такая порядочность была между нами, что никто чужих овощей не забирал. Сейчас среди людей больше разрозненности, чем тогда, в войну», — вспоминает Клавдия Ивановна. Она, как и многие ленинградцы, тушила зажигательные бомбы. Однажды девушка стояла у окна, и бомба с невообразимым свистом — никогда она его не забудет — летела прямо на неё. Взрывной волной Клаву отбросило сначала на стропила, а затем обратно с такой силой, что она чуть не вылетела в окно. К счастью, бомба не разорвалась. Сейчас блокадница замечает, что тогда, видимо, из-за юного возраста она не воспринимала так серьёзно опасность как сейчас.
Из блокадного быта ей еще запомнились светящиеся «ромбики» на одежде. На улицах тогда было очень темно, освещения не было, и люди на улице постоянно сталкивались друг с другом. Поэтому были придуманы фосфорные ромбики, которые люди носили на груди и шли как светлячки.
Военное время молодой Клавдии озарила светлая юношеская любовь. Ещё когда девушка училась в восьмом классе, за ней ухаживал её одноклассник Димка. Он водил Клаву в театр и вёл себя как галантный кавалер: видно, его папа, военный, дал ему правильное воспитание. К ней даже начала уже приглядываться и его мама. Они вместе ходили на уроки танцев и всегда стояли в первом ряду. На их пару обращали внимание и преподаватели: блондин Дима и «чернявенькая» Клава с косичками. Когда наступил 1941 год, жизнь их развела, но новая встреча произошла случайно. О ней Клавдия Ивановна вспоминает с нежностью: «Работал у нас всю войну Театр Музкомедии, и мы туда ходили. И вот выхожу я в раздевалку после оперетты и вдруг вижу, что стоит Дима и смотрит на меня. Он, конечно, пошёл меня провожать. И вот помню, что зашли мы к нам во двор, и там он меня вдруг поцеловал, а я почувствовала как чуть колятся его усики, только начинавшие пробиваться. Всё-таки у него, по-видимому, сохранились ко мне какие-то чувства. Мы все равно расстались, я его не полюбила, но мне было приятно, а те усики помню до сих пор».
Клавдия всю войну работала в Выборгско-Калининском отделении Ленинградского областного комбанка. Подход к работе был строгий. Молодой управляющий собрал девушек и дал наставление: «Вы — служащий человек. Вы должны быть на высоте со своими клиентами. Чтобы никаких Клав, никаких Мань не было. И никаких носочков носить нельзя. Только колготки».
В отделение банка приходили письма с Ленинградского фронта от военных, которые писали не каким-то конкретным людям, а девушкам, с которыми хотели познакомиться. Эти фронтовые треугольнички были разложены на столе, и можно было выбрать себе друга по переписке. Одно письмо от молодого человека по имени Миша зацепило девушку своими «интересными выражениями», так и завязалась их дружба. Через некоторое время они обменялись и фотокарточками. Сначала Клава думала, что её фотография в шляпке с козырьком ему не понравится, ведь на своей карточке Михаил предстал очень серьёзным. Однако девушка заинтересовала молодого человека. Она даже посылала ему на фронт книги, в частности, произведения Джека Лондона. И до сих пор в домашнем архиве Клавдии Ивановны сохранилась весенняя открытка с тюльпанами, присланная Мишей: там было стихотворение с последними строчками: «Клава! Будьте здоровы, любите жизнь, будьте сами цветком в жизни, только никогда не отцветайте». Этому завету она следует до сих пор. Однажды раздался звонок в дверь, и почтальон вручил Клавдии белый конверт под расписку. Этот момент она не может забыть даже спустя годы: «Я открыла конверт, и у меня задрожали ноги и руки, так было плохо, потому что внутри он был весь чёрный. Офицер в письме написал мне, что Миша погиб на его руках смертью храбрых, а умирая, он вспоминал именно меня». Так трагично оборвалась судьба юноши.
А с будущим мужем, Павлом Владимировичем, судьба свела её тоже в блокаду, прямо по дороге с работы. Клава торопилась перейти улицу и, чтобы не попасть под проезжающий транспорт, налетела на моряка. Он шёл на свидание к девушке, но так как им было по пути, то они пошли вместе, так и завязалось общение. На прощание Павел попросил адрес Клавы и начал за ней ухаживать. «Пять лет мы женихались», — улыбается Клавдия Ивановна, — «он всё ухаживал. Приходил ко мне домой, и мы сидели и целовались». Поженились они только в 1947 году, и Клавдия Ивановна вспоминает, что на протяжении всей совместной жизни у них в семье было принято обращаться друг к другу по имени и отчеству.
После Победы, к сожалению, так и не вернулся брат Клавдии Ивановны, лётчик Василий. В последний раз его видел одноклассник Клавдии Дима, когда его часть отправляли с Московского вокзала. Он числился без вести пропавшим, и мама даже обращалась к экстрасенсам, чтобы его найти. Один из них сказал семье: «Он остался обрубком без рук и ног. Не ищите и не тревожьте его». Возможно, его самолёт был сбит, и ему ампутировали конечности. Так или иначе, его судьба осталась неизвестной.
После войны Клавдия Ивановна работала уже в госбанке, потому что комбанки тогда реорганизовали в госбанки. Потом она перешла финансистом в «Электрокерамику», где и проработала до пенсии. С мужем они прожили в согласии долгие годы до его смерти. Но и сейчас, спустя многие годы, у Клавдии Ивановны улыбка той девушки, которая может вдохновлять в трудное время.
#блокада

Яркие воспоминания о начале войны, о юности в блокадном Ленинграде, о тяжёлом детском труде. По-мужски строгий рассказ, в котором читается многое о тех страшных годах и о влиянии их на человеческую судьбу.
На начало войны Владимиру Филипповичу было всего 13 лет. Родился он 24 июня 1928 года в Ленинграде, недалеко от деревни, где проживали отец и мать. Отец работал в трамвайном парке.
Когда Владимир Филиппович узнал о войне, он был с матерью, Анной Ильиничной, на даче, недалеко от поселка Вырица — в поселке Слудицы. Уже через месяц им пришлось покинуть дачу, потому что немцы подошли вплотную к Слудицам. Мать и сын бежали на станцию Поселок, куда приходили поезда для эвакуации населения. Здесь они впервые попали под бомбежку: был налет на станцию. Когда бомбежка закончилась, поезд был весь пробит осколками, но Владимир Филиппович и его мать всё же сели в него и доехали до станции Вырица. По прибытии на станцию снова раздался сигнал о воздушной тревоге. Пришлось вновь покидать вагон и укрываться от очередного налета немецко-фашистских пилотов. Так для их семьи началась война.
Отец, Филипп Иванович, был призван с самого начала войны: сначала в войска противовоздушной обороны (гасили зажигалки, тушили пожары, разряжали бомбы, охраняли военные объекты), а в конце 1941 года его призвали в армию пулеметчиком, и он служил на месте, где сейчас находится мемориал на Московском проспекте, в ДЗОТе. А мама с Володей остались дома по адресу ул. Стачек, дом 23, квартира 36.
Там они жили до 8 сентября — до налета на Ленинград. После этого мать и сын отправились к сестре матери в центр города, на Морской переулок. «Мама думала, что там будет тише и лучше», — вспоминает Владимир Филиппович. Но и там они попали под крупный авиационный налет, когда разбомбили улицу Марата и площадь Восстания. Бомбили крупными бомбами — до 500 кг. Такие бомбы попали в том числе и в Дмитровский переулок, который был почти полностью уничтожен в результате налета. Машины, стоявшие на улице, были буквально «вбиты в стенки» и расплющены. Мать была напугана, и они вернулись к себе домой на проспект Стачек, где и прожили до 1942 года.
Что такое война юный Володя понял впервые во время той самой бомбежки в центре города, но самое острое чувство пришло со смертью мамы. Мать Владимира Филипповича скончалась 6 июня 1942 года. Володя вспоминает, что отвез маму в морг, а позже узнал, что она похоронена вместе с другими погибшими «то ли на Пискаревском кладбище, то ли на Серафимовском». Он потом пытался найти могилу, но так и не смог — было очень много одинаковых имён и фамилий. Владимир Филиппович считает, что мама похоронена на Пискаревском кладбище, как и все в то время. Он постоянно туда ездил и возлагал цветы у братской могилы 1942 года. После смерти мамы Володя остался жить с теткой Марфой Ивановной, сестрой отца.
В 1941 году Владимир Филиппович закончил 5 классов, а в 1942 году, когда начались занятия в школе, Владимир Филиппович снова отправился в 5 класс, где школьники проучились около 2 месяцев с мая. После этого детей направили в подсобное хозяйство Кировского района выращивать овощи. Посадка, прополка, уборка урожая — занимались всем. Жили ребята в деревянных домах: мальчишки на втором этаже, девочки — на первом.
В сентябре 1942 года Володя вернулся в школу № 6 имени 10-летия Октября на проспекте Стачек, в которой учился с первого класса, но теперь он пошёл уже в шестой. Владимир Филиппович вспоминает, что в 1943 году отменили все экзамены. Вместо экзаменов дети сразу же были направлены на работу в подсобное хозяйство Кировского завода, где охраняли поля и занимались их возделыванием. Позднее, в 1944 году, за работу в совхозе все ребята были награждены медалями «За оборону Ленинграда», в их числе и Владимир Филиппович.
Тогда же, в 1944 году, школы были разделены на мужскую и женскую. Мужская школа находилась на Ново-Сивковской улице (ныне улица Ивана Черных), где мальчики пошли учиться в 7 класс. Владимир Филиппович проучился там до 1948 года, пока не поступил в военно-морское училище.
Так всю войну он провёл в Ленинграде. О Дне Победы Владимир Филиппович узнал по радио. Они побежали с другом к месту проведения праздничного салюта, но не успели. Только у Нарвских ворот слышали и видели фейерверки. Естественно, ощущалась атмосфера праздника.
Все верили, что Ленинград победит. Ради этого днями и ночами дежурили на крышах — тушили зажигалки. На счету Владимира Филипповича 3 зажигательные бомбы, которые он выбросил на улицу через слуховое окно.
В блокадном городе происходили и радостные события, например, празднование Нового года. Володя запомнил, как встречали новые 1943 и 1944 года, когда отец находился в Ленинграде на переформировании. Это были действительно праздники!
Ещё Владимир Филиппович вспоминает, как мальчики дружили с девочками, ходили с ними в театры и кино. Но и эти радости всё же бывали частенько омрачены войной. Больше всего запомнилось, как во время представления в Александринском театре была объявлена воздушная тревога, и всех граждан попросили покинуть здание, чтобы укрыться в бомбоубежище на улице. Часто ходили и в кино. Смотрели не только отечественные фильмы, но и зарубежные. Например, трофейный фильм «Девушка моей мечты» Владимир Филиппович пересмотрел раз десять, очень уж он ему понравился.
В 1947 году всех мальчишек направили в Вырицу в военные лагеря. Там Владимир Филиппович вместе с другими ребятами проходил военное обучение. Мальчиков учили стрелять, бегать, прятаться, маскироваться. Позже, когда ребята учились в 9 классе, Владимир Филиппович познакомился с одним лейтенантом, оказавшим ему позже огромную услугу. В 1948 году Владимир Филиппович пытался поступить в ВМУ, но в военкомате ответили, что он всё равно пойдет служить, а не учиться. Тут-то и помог знакомый старлей, который добился разрешения от военкома на допуск к экзаменам в Кронштадте. В 1948 году герой поступил в КВМТУ, где проучился до 1952 года.
В 1952 году курсанты сдали экзамены и защитили дипломы. Владимир Филиппович получил диплом с отличием, после чего был направлен на службу в воинскую часть под Ярославлем, в Бурмакино. Там находился большой военно-морской арсенал. В 1953 году женился на Бурхановской Тамаре Васильевне. В 1954 году родился сын Сергей. Тогда же Владимир Филиппович был переведён в другой арсенал, находящийся в Марийской республике, поселке Сурок на должность начальника отдела, где получил звание старшего лейтенанта.
Потом он переехал в Петербург, демобилизовался и поступил для получения квартиры на работу в Кировский райисполком, поскольку тогда денежное довольствие было одно — пенсия. Так и получил квартиру, в которой проживает до сих пор. Позже он пошел работать на Кировский завод машиностроения в конструкторское бюро (КБ), где изготавливались турбины для подводных лодок, и проработал там по 1974 г.
В 1974 году по сокращению уволен из КБ. За время службы в Сурке много кораблей-катеров было поставлено за границу, даже в Египет. Во время Египетско-Израильской войны катера, отправленные на экспорт, потопили израильский корабль. Люди, причастные к этому, были награждены орденами и медалями. Владимир Филиппович был награждён орденом Красной Звезды.
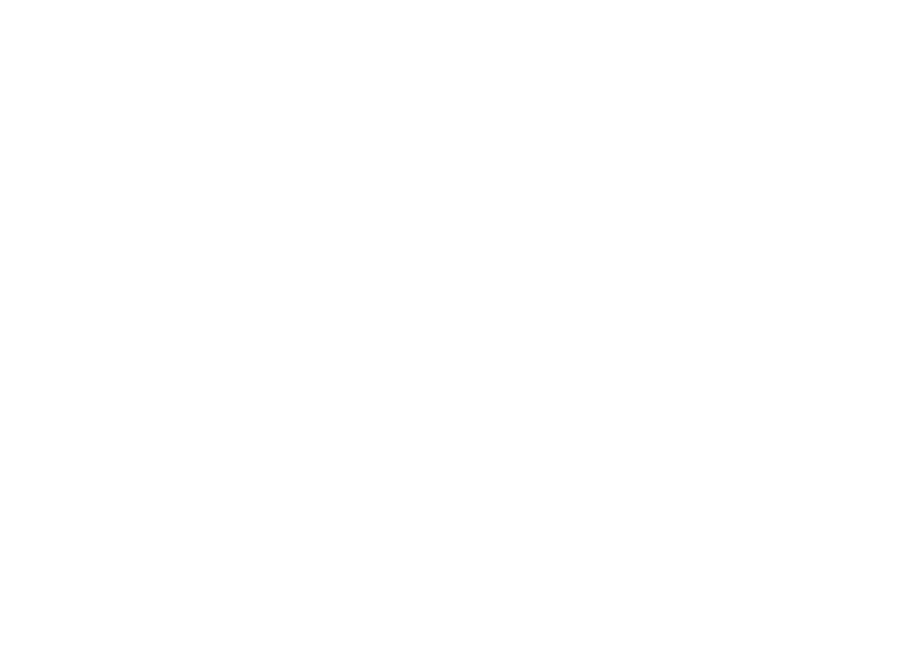
Воспоминания Ларисы Александровны Петровой
В прошлом шоколадные яйца с серебряными серёжками внутри, а в военные годы – все нищие, голодные, оборванные. Отец семьи прошёл всю войну, и, вспоминая об этом, только плакал. Мать и три дочери остались без дома, в скитаниях провели всю войну, тяжело работали и очень хотели вернуться в Ленинград…
В нашей семье трое было детей. Одна моя сестра, Нина, 1930-го года рождения. Вторая, Рита – 1934-го, и я – 1937-го. Вообще, у нас родственников очень много. Есть у меня и двоюродные сестры, они пережили здесь всю блокаду и выжили. Но у них нет детей: они развивались плохо, питание было плохое. Я из всех сестёр родила одна. И то только благодаря тому, что уехала на Байконур, где мне сделали операцию. Сейчас старшей двоюродной сестре 87 лет.
Мою маму звали Мария Никитична, а папу – Александр Анисимович. Она 1902 года рождения, а он – 1903 года. У мамы, вообще, жизнь началась интересно. Она родилась у Анны Никитичны и Никиты Никитича. У Никиты Никитича был брат, он был женат, но у него не было детей. И маму, Марию Никитичну, самую старшую, они попросили на воспитание. Сказали: «У вас ещё дети будут, отдайте нам свою на воспитание». Они жили в достатке, поэтому мама была воспитана в богатой семье. Она и в гимназии училась, и хорошее образование получила, совсем другой жизнью жила. В девичестве она была Постнова, а вышла замуж и стала Маслова.
Папа был и в 1939 году на Финской войне, и Великую Отечественную всю прошёл. Он возил разведчиков. Ему дали полуторку, вот он на ней так до самого Берлина и доехал. И постоянно присылал деньги. Папа окончил три класса церковно-приходской школы и был умнейшим человеком. Все шахматные турниры выигрывал, служил в штабе пожарных округа. На даче очень много потайных замков придумывал. А когда мы ходили в школу, всегда помогал с уроками. Очень хорошо разбирался в машинах. Но писал с ошибками. В письмах, которые он присылал, могло быть написано: «Привет с фонта». У него мама купчиха была (Екатерина Ивановна), и землю они имели, занимались извозом. А моя мама вышла за него замуж после 1917 года, потому что страна была уже другая: она была из богатых, а он из бедных. А тогда расстреливали же. Вот она и вышла за простолюдина. Дедушку (маминого папу) арестовали за то, что он наносит ущерб стране – тогда статья была такая. Было написано, что он приговорён к расстрелу. А он просто нанимал людей, чтобы на его огороде они землю обрабатывали – ему самому было не справиться. Расстреливать его пришли 21 июня 1941 года, а он умер. Расстреливать уже не нужно было. А вот бабушка много прожила – 82 года.
Мне было 3 с половиной года, когда началась война. Мы жили в Ленинграде. Своего дома у нас не было – его на дрова сожгли. Рядом с нашим домом был огнесклад, и немцы все время бомбили этот огнесклад, потому что там подземные лаборатории были, и даже проспект назывался Лабораторный. У нас ещё погреб был во дворе, там продукты хранили. Так вот, стреляли всё время, бомбили. Нас с сёстрами (а я самая младшая) мама до апреля 1942 года всё туда прятала. Как увидим – бомбят – бегом в погреб. Так и сидели в нём целыми днями до вечера, потому что вечером немцы не прилетали и не бомбили.
В конце апреля 1942 года нас через Ладогу вывезли в Кобону. Нас выселили из-за того, что трое детей, и перестали давать карточки. Вот если двое детей, то можно было жить во время войны, а нас трое – нам карточки не давали. А родной брат мамин работал в совхозе, и листья от капусты он сдавал в город. А листья мама тащила на себе десятки километров (с Ладожской на Кондратьевский) пешком.
Вот я помню, а мне было уже 4 года, как мы ехали в полуторке. Мама где-то достала поллитра водки, и водка перевезла нас в Кобону. А водка тогда была дороже золота. Последний рейс уже был по воде Ладоги. В кабине у родителей ноги были в воде, а я сидела у мамы на коленях. А сёстры и знакомые сидели в кузове. Мы приехали в Кобону, а там другая жизнь, там немцев нет. И вот помню: нам дают красный хлеб, розовый хлеб, а родители его у нас отнимают – мы же голодные, нам нельзя много есть, иначе можно погибнуть. Потом нас увезли в Куйбышевскую деревню Кошки, и мы там до 1944 года жили. Там коровы были, мы не голодали. Эти два года у нас хорошая жизнь была. Я помню, там всё сажали, собирали урожай. И почему-то был чан, и мы все ели из этого чана ложками. Вот сидит человек двадцать, и все из этого чана едят деревянными ложками. Нина с Ритой и мама в полях работали, а мне тогда было лет 5-6.
В 1944 году мы вернулись обратно в Ленинград. Там можно было только по пропуску. И мамин брат вытребовал его через большой дом, иначе не пускали. Нам и вернуться-то сразу нельзя было. Нужно было где-то отсидеться. Поэтому мы ехали через какую-то деревню под Ленинградом и в ней жили, Нина даже в школу ходила с Ритой. А я нет, я только после войны в школу пошла, лет в 8. Долго нас не пускали в Ленинград. Но у мамы брат-огородник договорился – и вот нас поселили на Октябрьскую набережную. А жили в Совхозном управлении: днём гуляли, а когда все с работы уходили, мы спали на полу в этом управлении. Весь день мы проводили на улице. Так и жили, пока нас не привезли в Салтыковку, к дяде Коле в огромный дом. Это было бабушкино имение. Его потом разобрали, сделали завод на этом месте, он и сейчас там стоит.
Тяжёлая жизнь была. Мама раньше в богатстве жила. Она рассказывала, что до революции пирожное полкопейки стоило. Вспоминала, как у них дома шоколад кололи специальным топориком, огромные такие плиты шоколада. А еще яйца были шоколадные, а внутри – серебряные серёжки. Как сейчас киндер-сюрприз. А потом мама в таких условиях... Все нищие, голодные, оборванные. Бедная мама! Но она не сдалась, хотя Советскую власть она так и не приняла. Только в 1986 году умерла.
Я День Победы помню. Мы были на мосту. Нас было трое и мама. Мы все за руки держались. День был шикарный, теплый. Народу были тысячи. Солдат машинами привозили, все в военной форме. Мы тогда пришли папу встречать на Володарский мост, знали, что там все будут возвращаться, но не встретили. Он вернулся с войны только осенью 1945 года и о войне ничего не рассказывал. А когда начинал вспоминать – плакал.
#блокада #дети_войны
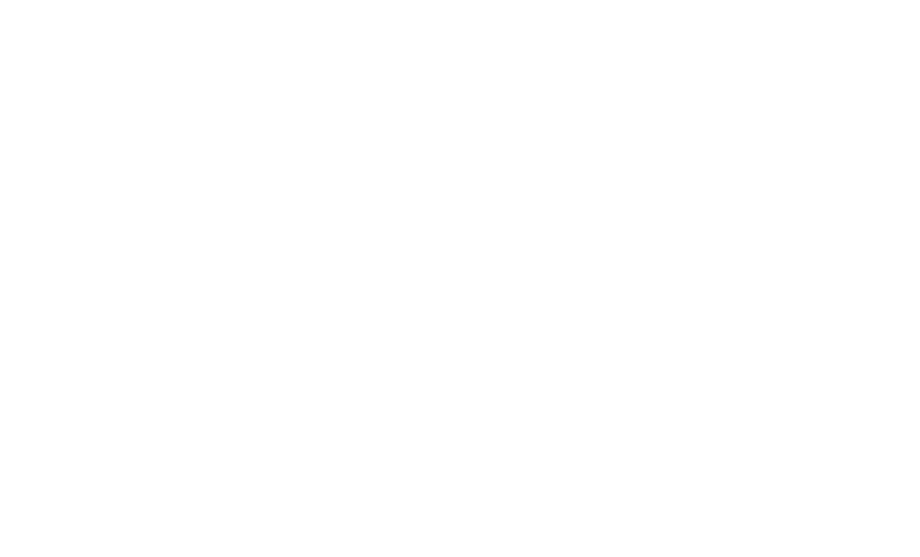
Моего отца звали Владимир Михайлович, родился он 28 июля 1912 года. Отец у меня хорошо рисовал и должен был поступать в Художественную академию. Помню, как он со мной всегда делал ёлочные игрушки — дома постоянно всякие рисунки животных везде висели. Еще до войны отец учил меня читать и писать, готовил меня к школе. Он даже в письме потом напомнил, мол, пусть Тамарочка пишет и читает. На фронт его забрали 8 сентября 1941 года.
Воевал он в Колпино, рядом с Красным Бором. Бои были страшные, приходилось не спать и не есть по несколько суток. И всё это было в декабре, когда начались сильные морозы. В боях он дважды был ранен в руку, после чего попал в госпиталь. Пока он лежал в госпитале, он написал воспоминания о своих боях в тетрадку. Эта тетрадка до сих пор у меня сохранилась.
Первый бой отца был во втором противотанковом рву. В этом рву с одной стороны были немцы, а с другой стороны — наши. Вот так и шли друг на друга. Немцев-таки сумели выгнать, ров был в наших руках.
После первого боя солдаты весь день ничего не ели, еду принесли только ночью. А утром 24 декабря сразу пошли в наступление. Подошли почти вплотную к немцам, но, как начался рассвет, немцы сразу стали стрелять. Вот так часть отца попала под обстрел. Им пришлось закапываться в снег, чтобы не убили. Мой отец и его товарищи пролежали так до вечера, многие были убиты. Вечером уже можно было отползти с поля боя, хотя, по сути, с поля расстрела наших солдат. На обратном пути отец видел много убитых бойцов, некоторые автоматчики остались стоять мёртвыми в кустах. Он пошел в сторону Колпино, идти надо было километров 6-7. И все это было после трёх бессонных полуголодных ночей да жестоких перестрелок. Ноги почти не шли, всё тело болело, кости ломило.
К ночи пришёл в Колпино, где находился старшина, а там пьянка. Командиры пили водку, которая осталась после убитых солдат. Его, конечно, накормили, но затем приказали идти искать своих раненых товарищей: пьянку-то при нём неудобно было продолжать. Отец решил сначала поспать. Его пустили в какой-то дом переночевать на кровати за 200 грамм хлеба. Поспать на кровати четыре часа было счастьем.
Рано утром отец пошёл искать товарищей. Оказалось, что из всей роты их осталось всего 7 человек, да и то, трое из них вне строя. Днём их накормили, приказали отдыхать, так как утром снова идти в наступление. Рано утром 26 декабря опять пошли в наступление, на этот раз шли с танками. Добрались перебежками до того места, где накануне лежали в снегу. Танки были позади пехоты. Вот тут-то и ранило отца в правую руку. Сначала ранение было выше локтя, а затем сразу же второе, уже ниже локтя. Отец перебежками ушёл из-под обстрела. В санчасти его перевязали и отправили в госпиталь, а там его уже мама навещала.
Помню, когда папу забрали, то поначалу он одет был в шинель, ноги были обмотаны портянками. Сапоги плохие имел. После госпиталя писал потом, что ботинки наконец-то получил хорошие. Отца после госпиталя отправили в Званку, где он защищал Волховскую ГЭС, да там и погиб. Хотя писали, что пропал без вести.
А дядя Лёша, брат папы, был хорошо одет, в полушубок. Он погиб за Ладогой.
Ещё один дядя - мамин брат, Захаров Борис Васильевич, был лётчиком-капитаном. Воевал он под Керчью, где и погиб. Знаю, что спас всю свою эскадрилью.
Мы жили на Фонтанке, там у нас было две комнаты. Когда отец попал в госпиталь, то мать с Фонтанки ходила аж туда. У них там не было даже одежды, чтобы прикрыться. Пока он служил рядом с Кировским заводом, то иногда приходил к нам домой. Поставит автомат и сидит чай пьёт. Однажды мы с мамой его навещали после госпиталя, когда отца ненадолго к нам выпустили. Но после госпиталя его резко вывезли из Ленинграда и отправили защищать Волховскую ГЭС, мы даже не успели попрощаться. Он писал маме: «Девочек не вывози, не довезёшь». Но мама повезла нас, выбора не было.
В блокаду все спали на одной кровати, так как очень холодно было. Прям так вчетвером и спали: я, Ирка, мама и бабушка. Буржуйку мы топили книгами, их было много. Ещё стульями топили, зима-то суровая была.
Ирка родилась 8 июня 1941 года. Мы её очень берегли, она выжила, потому что я ходила за молочком на 13-ю Красноармейскую. Было далековато, а на улице холодно, да ещё и бомбёжки. Но я ходила и носила молоко в бутылочках, которые сверху ваткой закрывали. Давали нам по две бутылочки. Я это молоко так никогда и не попробовала, боялась. А бабушка потом его разогревала. Положит бутылку в утюг и начинает им размахивать, он разгорался, и молоко разогревалось.
Мой дедушка, Михаил, был религиозный. Он носил нам лампадное масло, чтобы фитилёк горел. Но однажды не дошёл - его убило осколком снаряда, который рядом разорвался, когда он шёл на службу свою, охранником.
Помню, что в 1941 году на углу Лермонтовского и Фонтанки была баня. И прямо во время блокады нам её истопили и всех нас пригласили помыться. Ох, какое это было диво! Не узнавали мы там, конечно, друг друга. Это был начало 1941 года, люди были в такой безысходности, что надо было всех согреть, вот и истопили баню. Откуда взяли столько топлива, я уж и не знаю. Мы с мамой сходили и помылись в бане, это было блаженство…
Помню, что в театре Музкомедии у Чесноковой (заслуженная и народная артистка РСФСР Богданова-Чеснокова Гликерия Васильевна - прим. ред.) был попугай, так мы его – кто чем – подкармливали. Он многих потом пережил, а умер только в 1960-х годах.
Ещё я помню, как горели Бадаевские склады, как горел зоосад. Рядом с нами была фабрика «Гознак», там подвал весь в камне был да койки стояли. Мы там во время бомбёжек прятались. Но я всегда лезла наружу и смотрела, как летали эти фашисты. Много их было, наши всегда прожекторами светили, они все скрещивались. А еще я наблюдала, где окошечки загораются – это вредители так делали. Разные были люди.
С января мы уже не могли посещать бомбоубежище, были только на своей койке. Мы с мамой ходили и собирали что-нибудь деревянное, что-нибудь срубленное. Потом на кухне мы это пилили, чтобы как-то существовать. Вообще, мы всё домашнее спилили, все книжки сожгли. Так же топили старинными стульями, которые бабушке достались после революции. Но холодно было, очень холодно. Невероятно суровая была зима. Ну, и окна были занавешены, да кресты на окнах.
По радио ещё была Ольга Берггольц. Помню, что рядом на комоде чёрная тарелка стояла. Её стихи поднимали дух, она умница большая!
В феврале мы уже всё сожгли. Зимой мы вчетвером спали на узенькой койке. Ещё нас навещал муж маминой сестры, он работал на фабрике, где делают всякие географические карты, и нам носил всякие вещи. Сам же потом скончался от дистрофии.
Все нас старались спасти. Папа ещё до войны приобрел патефон — так мы его обменяли на горох, вот и продержались немножко, потом ещё что-то продали, опять продержались. Люди разные были, у кого-то были возможности даже приобрести новые вещи.
Бабушку мою звали Агриппина Макаровна, ей было всего 60 лет. Потом в марте 1942 года так получилось, что бабушка простудилась - у неё было воспаление лёгких - и она быстро умерла. В соседней комнате с нами жила дама, и вот меня туда на кровать забрали, чтобы я с бабушкой мёртвой не лежала. Тогда был уже конец месяца, все соседи поняли, что нам здесь больше делать нечего, ведь всё поддерживала бабушка, а мама уже была никакая, ноги опухшие, только лежала. Дядя Саша помог оформить документы, так как выехать из Ленинграда было трудно. А соседи посадили нас на саночки и отвезли к машинам, которые ехали к Ладоге. Вот так и эвакуировали нас в апреле 1942 года, прямо на последних машинах! Я сидела наверху, в открытом кузове, а мама с Ирочкой сидели в кабине. Кстати, наши учёные в блокаду разрабатывали вещество, чтобы лёд дольше не таял и по Ладоге можно было проехать.
А потом, когда мы переехали Ладогу, нас запихнули в эти теплушки, ну, где скот возят. Я с Ирочкой на нарах была, а мама внизу буквально на одной ноге стояла, потому что тесно очень было, людей как кильки в бочке было. На нарах сидели только старики и дети. Рядом со мной сидела очень пожилая дама, она скончалась потом. Так вот, мы с Ирочкой повыше были, а еще повыше чьи-то вещи лежали. И Ирочке на головку чемодан чей-то упал, она потом медленно на руках у меня уходила, 10 часов умирал ребенок. Представляете, вот упал чемодан Ирочке на головку и всё, а мы так берегли её всю блокаду! Ведь она родилась прям перед ней. И вот, люди везли своё барахло, и ребёнку на головку упал их чемодан! Маме дали свечку, и она с этой свечкой стояла на одной ноге внизу. Мы ещё по Иркиной карточке потом кушали, а её положили вдоль вагонов на насыпь - так всех клали, кто умирал.
Нас 26 суток везли в Нижний Новгород, вагоны были из-под скота. Нары внутри были без соломы. У нас в вагоне буржуйка стояла, а труба на крышу выходила. С нами в вагоне ехал дядька один, он на остановках выходил и кошек нам ловил, а потом кормил нас ими. Мы ему платили немножко, но потом он куда-то исчез.
Мама работала на Кировском заводе, но из-за сестрёнки во время войны сидела дома. Родственников эвакуировали в Семёнов. Мы потом тоже туда приехали, я там в школу пошла. Сидели за партой по три человека. На нас там все ходили смотреть, как на экспонаты Ленинграда. Мамину сестру, тётю Женю, предупредили, чтобы мы ни слова не говорили про блокаду. Нельзя было говорить, запрещено. Можно было делать вид, что у нас всё хорошо, а тот дух у людей бы упал.
В марте 1944 года мы вернулись в Ленинград, тут была тишина, народу никого. Многие знакомые да родственники поумирали. Мама завербовалась в «Ленэнерго» на Кировском заводе, там и работала. И я потом тоже там всю жизнь проработала!
#блокада #дети_войны
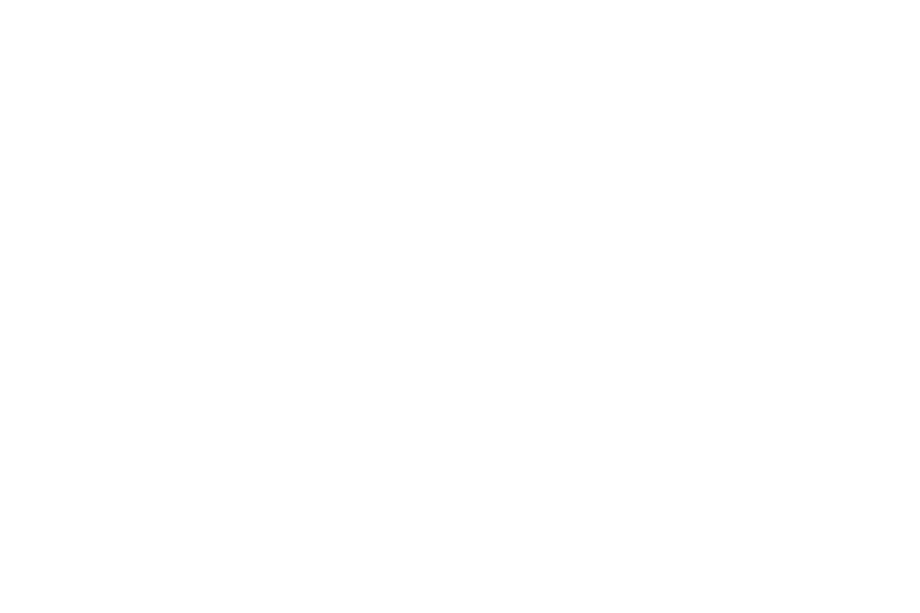
«Ведь был июнь – шальной и звонкий»
– Я коренная ленинградка, родилась в семье служащих. И всю жизнь прожила в Ленинграде, не считая 20 лет в Новосибирске, куда уехала за мужем (советский ученый-физик Эдуард Матизен – прим. ред.). Дневник веду с 13 лет. Что я помню о времени до войны? В Советском Союзе мы были очень политизированы. Например, в школе – это бесконечные линейки, доклады, политинформации. Потом комсомольская, пионерская организации – и всё это очень хорошо работало, причём искренне всё делалось. У нас была самодеятельность, хор, драмкружки. В общем, жизнь была интересная. И очень хорошее образование – у нас были еще гимназические учителя. Мы ходили на демонстрации – по собственном инициативе, сами просились туда. Мы не понимали, что это был идеологический перегиб, нам действительно это нравилось.
У нас не было телевидения и интернета, но у нас было радио, и мы слушали его. А ещё я занималась музыкой – правда, только до войны. Но я до сих пор иногда подхожу к пианино – несмотря на то, что оно очень расстроенное, – навыки-то остались.
Раньше мы жили на Петроградской стороне. Теперешний «Мюзик-холл» тогда был Народным домом, то есть домом для народа. В моё время в нём был филиал Мариинского театра (тогда театра им. Кирова), там давали оперу. Мама моя, Алевтина Ивановна Желомей, была такая театралка, и мы раз в неделю ходили в театр точно. Какие имена мы слушали! Мы читали, ходили в библиотеки. Фильмы, которые мы смотрели, были знаковые – и мы их пересматривали много раз. Нам, детям, было хорошо. Да, мы ходили в чулках в резинку, в штанах с начёсом, в школе – в обыкновенных сатиновых халатах. Но нас это совсем не удручало. Мне вот только перед самой войной сшили хорошее платье – так я его ещё долго в послевоенные годы носила на разные вечеринки.
Что ещё тогда было вокруг… Когда в 1934-м году привезли испанские апельсины, мы стояли за ними в очереди! Мы не знали, что это такое. А каждый апельсин был завернут в пергаментную бумажку – и это было что-то исключительное. Зато у нас были натуральные продукты – мы их покупали на рынке. Такая вот у нас была жизнь до войны.
Война застала нас на кооперативной даче под Токсово, где мы жили каждое лето с 1934 года. Пришёл сосед, единственный, у кого был приёмник, и сообщил: война! Тут же стали собираться взрослые. Но ведь ему никто сначала не поверил... А когда поверили, сразу стали уезжать в Ленинград. Мы остались – у меня мама была инвалидом, у неё отказывали ноги, ей постоянно требовалась помощь…
С дачи мы уехали только после 21 августа 1941 года, когда нас оттуда выгнали в 24 часа. Вернулись в город, я стала готовиться к школе – нас, знакомых подростков, была большая компания, мы все очень дружили. И все с нетерпением ждали 1 сентября. Хотя нас уже стали привлекать к оборонным работам – рытью окопов. Меня, правда, не призывали, потому что мне надо было за мамой ухаживать.
«Я на том свете или ещё на этом?»
– В сентябре город начали бомбить. Первый разбомбленный дом, который я увидела, был на Невском, возле Московского вокзала. Просто как срезало фасадную часть. Весь Ленинград ходил на него смотреть. Следующий большой налёт был 8 сентября – в тот день разбомбили Бадаевские склады. Такое зарево было! Мы все хотели до них дойти, но не дошли…
11 сентября, а мы жили на углу Геслеровского проспекта (ныне Чкаловский) и Пионерской улицы, буквально недалеко от нас упало сразу 4 бомбы на перекрёсток. Одна упала на бывшую церковь, где было ПТУ размещено. И среди ребят-ремесленников из этого училища было много жертв...
Конечно, поначалу все старались спускаться в убежище, но нам с мамой было тяжело это делать. Пару раз мы спустились, а потом перестали. Но в тот налёт все побежали в убежище – и мы тоже. А перед тем, как спуститься, я решила окна на кухне открыть. Они у нас тогда уже были заклеены крест-накрест, чтобы не разбились при взрывах. Я встала на скамеечку, окна у нас были большие. А бомбы, они такие – летят и воют… Вот она воет у тебя над головой, ещё дверца от окна распахнулась – и ударила меня по голове, я упала. «Всё, – думаю, – я уже на том свете».
Первое время нас бомбили довольно много. Но молодёжь не очень серьёзно к бомбёжкам относилась, пока лично не сталкивалась с чем-то страшным. Одна бомба упала уже в блокаду зимой. Весом в тонну. Прямо посередине Чкаловского проспекта, между нашим домом и соседним. Пробила четыре этажа в доме напротив и застряла, но не взорвалась. Нас выселили, но мы с матерью остались. А бомбили нас потому, что у нас был центр производственный, много предприятий – заводы «Вулкан», «Красное знамя».
Когда замкнули «кольцо» блокады, прекратился подвоз продуктов. Стали уменьшать нормы по карточкам. И, конечно, все как-то пытались достать продукты. Вставали в очереди в 4-5 часов утра, на морозе ждали, пока откроется магазин. Очереди были очень длинные. Человек 20-30 успевали получить что-то, а потом продукты заканчивались. И назавтра опять нужно было идти в очередь…
Что-то можно было получить в столовой. Помню, мы даже как-то с девчонками пошли в ресторан, отстояли жутко длинную очередь, и нам на какое-то огромное количество мясных талонов выдали большую куропатку!
Потом, когда уже норма стала совсем крохотной, наступил настоящий голод. Тебе дают такой мокрый кусочек, а там и отруби, и жмых, и даже опилки. Некоторые прямо тут же съедали его – это совсем опустившиеся люди. Но мы доносили хлеб домой…
Сразу скажу: если человек не имел никаких запасов или ценностей – хотя ценности в блокаду не ценились, ценилось только то, что можно было съесть, – если семья жила от получки до получки, не имея другого дохода, – они не выживали. Нашей семье было чуть легче. Поскольку мама не ходила, мы обычно летом уезжали на дачу. А тут ни магазинов, ничего – здесь был пропускной режим, потому что линия Маннергейма была рядом. Поэтому мы перед каждым выездом закупали провизию на весь сезон: крупу, масло, всё, что можно достать. И на этот раз, летом 1941-го, тоже так сделали. Папа, когда первый раз услышал слово «война», сразу сказал – ничего из запасов не трогать. Это нас и спасло.
Ещё нас спасло то, что отец, Никифор Андреевич Желомей, работал бухгалтером в Леноблпотребсоюзе, на его штат возлагалась ревизия всех продуктовых лавок. И отец сам стал ездить на эти проверки. У него где-то в Токсово знакомый был в пекарне, дядя Женя. И когда папа приезжал с проверкой, он давал папе буханку. Но это всё официально, папе ведь оформляли командировку. Потом отец ещё привозил хряпу – это такой серый лист капустный. Ещё какие-то потроха, которые выбрасывались. Бараньи или овечьи, потроха, кишки со всем содержимым. Я это долго не могла есть, но потом привыкла всё-таки. А триумфом блаженства было, когда папа принес кусок дохлой лошади. Приличный такой кусок. Мы его засолили, и я все бегала и практически контрабандой отрезала кусочки – конина между окнами замороженная лежала, – и ела. Вот такой был у нас доход, благодаря которому мы выжили.
Как только стаял снег – мы сразу же приехали на дачу, на землю. Тут уж любая зелень: лебеда, крапива – всё пошло в ход. Щи из крапивы! Это был деликатес. Ещё из травы делали лепёшки – у меня даже сохранились такие, я их потом отдала в музей блокады Ленинграда. Фактически это просто сушёное сено. Из перемолотой лебеды с отрубями, обжаренные на машинном масле. И эти лепёшки мы ели взахлёб.
Этим посёлком командовал комендант Алексей Максимович Александров. Когда нам нужно было уезжать 21 августа 1941 года, ключи от дачи нужно было отдать коменданту. А отец понятия не имел, кто у нас тут в правлении, в комендатуре. Но, когда он отдавал ключи Александрову, выяснилось, что они с отцом земляки, оба из Белоруссии. И когда мы вернулись, он нам, как землякам, разрешили посадить грядку – брюкву, морковку. Ещё нам дали мисочку картофельных очистков. И мы их тоже посадили. Это была ещё одна статья нашего дохода.
«Ничего не чувствуешь, кроме голода»
– Осень прошла в ожидании. Меня привлекали в ЖАКТ (Жилищно-арендное кооперативное товарищество) – следить, чтобы жильцы спускались в бомбоубежище. Потом я принимала в этом ЖАКТе какие-то телефонограммы, сама передавала сведения. Потом мы разливали в бутылки «коктейль Молотова», достаточно долго. Еще на всеобуче собирали-разбирали винтовку. Но все ждали школу. Школа, наконец, началась. Мы ходили в школу, честно старались учиться. Мне отец вбил в голову с самого начала, что высшее образование – это главное. Поэтому, пока можно было, мы ходили в школу. Но вот перестали отапливать – в школе холодно. Нам говорят: «Приходите, дети, когда мы установим буржуйки». Приходим, буржуек нет. «Приходите еще через неделю». Снова приходим, буржуйки есть, но не во всех классах. А потом мы настолько обессилели, что перестали ходить в школу. Да и школы почти все позакрывались.
Зимой я пешком ходила за карточками отца в здание под аркой Главного штаба – с Петроградской. И вот я с утра отправляюсь, иду тихонько, с остановками, а вокруг – такая красота! Солнышко выглянуло, мороз, народу никого, такие виды с мостов. Снегу много-много, он не тронутый, город ведь не убирался. Тихо. Невский заснеженный. Нежилой, пустой город. Но красиво, как в сказке.
В домах свет отключили, канализацию. Мы все в одной комнате стали ютиться, посреди которой была буржуйка. Что ещё нас спасло? У нас были дрова. Потому что был дом с ваннами, значит, были печки. И мы для них купили подвал дров. Ещё тогда в Ленинграде стали разбирать все деревянные дома – на дрова. И у нас на Пионерской был Громов переулок – сплошь из деревянных домов, которые в итоге все и разобрали.
Всё, сидим дома. А от голода, знаете, у человека притупляется нервная система. Все становится безразлично, кроме чувства голода. И вот 14 февраля 1941 года у меня умерла мать. Так представьте себе, я даже не плакала… Это я потом узнала, много позже, что отец пожертвовал мамой ради меня – она была обречена, она же инвалид. И мать кормили только тем, что полагалось по карточкам, а всё остальное – мне и отцу...
Тогда, чтобы ещё на месяц получить карточку, мы мамино тело держали на кухне, где была минусовая температура. И она там лежала до марта. Потом мы, как полагается, зашили её в простынь и под покровом ночи на саночках довезли до ближайшего морга – тогда это были просто пустыри. На обратном пути отец с этого же пустыря из сохранившегося частично штакетника выдрал две доски и так виновато сказал мне:
– Галочка, прости, но живым о живом думать…
Я думаю, что вот это душевное «отупление» отчасти и спасло ленинградцев. Иначе никакая нервная система не выдержала бы…
И ещё кое-что. В то время карточки получали в домохозяйствах. У нас за карточки отвечала какая-то специальная уполномоченная по карточкам женщина. Конечно, учёт вёлся из рук вон плохо. Люди умирали, но никто не стремился сообщить о смерти родных. Так что у этой женщины оставались лишние карточки. И тогда мой отец, который уже был вдовцом, превратился в настоящего ловеласа поневоле. Он приударил за это Верой Акимовной. Хорошая, кстати, была женщина. И нам повезло - ему дали лишнюю иждивенческую карточку. У нас оставались какие-то драгоценности, золотые колечки – вот они постепенно перекочевали к Вере Акимовне. Но зато мы имели каждый месяц ещё одну лишнюю карточку.
«Пасла корову, читая Ибсена»
– Потом наступила весна. Я уже была натуральным дистрофиком. Работать мне было трудно. Отец отправил меня на поправку на дачу, где меня фактически спас комендант Александров, папин земляк. Я у него пасла корову. У него был огород, и ещё он с женой получал в госпитале карточки. Отец попросил его меня подкормить. Эта семья и спасла меня.
А пасла корову я очень смешно. В соседской пустой квартире были приложения к журналу «Нива». И там печатались произведения Ибсена. Мы с женой Александрова и коровой отправлялись на полигон, который тянулся до Ржевки. Он тогда был изрыт окопами еще со времен подготовки к финской войне. И вот я в такой окоп спрячусь от ветра и взахлёб зачитываюсь Ибсеном, потом выглядываю – а корова-то ушла! И я с рёвом бежала к хозяйке. Она меня утешала, мы находили корову и возвращались домой. Вот они меня так откормили, что в июле уже 1942 года отец устроил меня на завод, где я могла работать.
«Та заводская проходная…»
– Это был завод «Радист», под который приспособили бывшую церковь, до войны он выпускал радиоприёмники. В войну он стал заводом № 186, на нём стали делать полевые рации. Я просила, когда меня принимали: только не ставьте к станку, я не могу стоять! Меня поставили подсобницей в утильцех, правда, фиктивно. Но я уже могла получить рабочую карточку. На самом деле я со своим образованием в 8 классов была диспетчером в планово-производственном отделе.
Потом я поняла, что я и в этом качестве делала хорошее дело. На заводе собирали полевую станцию РБС-1. Это такой «кирпичик». И два таких же «кирпича» – блоки питания. Я выучила до винтика эту станцию. Звонят с самого последнего этапа – с настройки: нам не поступает станция. Идёшь в монтажный цех, а там одни старушки, девчонки или инвалиды. В монтажном: нам не поступают станции со сборочного цеха. Или нет провода. Идёшь на склад. Перерываю склад – нахожу. И дальше по цепочке. Приходишь в отдел снабжения. Там главный был Юрий Юрьевич Альтшуллер. «Что, опять пришла?» – устало говорит. «Вы, – говорю, – срываете поставки на фронт!» И он начинает звонить, чтобы достать нужные материалы. Вот какая была от меня польза.
А еще был такой случай. Не хватает для станции крепежа – это винтики всякие, гаечки, шайбочки. Мы их сами на заводе не делали. Тогда мы с одним сотрудником из отдела снабжения взяли мешки и отправили на разбомбленный завод, и там, перебираясь по перекладинам, собирали этот крепёж. Больше всего я боялась упасть – я боюсь высоты. Но как я хватала все эти винтики! Собрали мы их – и к себе на завод. И я их не отдала никому! Я на своем письменном столе их распределила и строго начальникам цехов отдавала по надобности, никому ничего лишнего. Так что я какую-то пользу приносила – станции собирались и отправлялись на фронт.
Ещё были торфоразработки. В Новой деревне оказались залежи торфа. И мы там работали. Ещё подсобное хозяйство в Рапполово – тогда там были поля, работать надо было с утра до ночи. Там все кидались на турнепс, который был в изобилии, а от этого турнепса у всех голодных был понос. А это верная гибель. Хорошо, что меня оттуда скоро забрали.
А потом создали штаб строительства для восстановления домов. Это был уже 1944 год. И мы, девчонки, опять там, как рядовые. Бетонировали стены в основном. Подрезова, Плуталова, Подковырова, Бармалеева – вот эти улочки мы и восстанавливали.
«Стукач из меня не получился»
– Потом у нас на заводе открылись 9 и 10 классы – школа рабочей молодежи. Я с радостью снова пошла в школу. Как мы закончили 10 класс – сама не понимаю. Мы же были совершенно уставшие, выходной – дай Бог один раз в месяц.
Коллектив у нас был хороший. Большинство девчонок были на казарменном положении – кто остался один, кому жить негде. Меня приняли в комсомол, выбрали в комитет, хотели сделать «стукачом» в райкоме – это я только потом поняла. Меня просили писать в райком о настроениях людей. А я же была такой тургеневской девушкой! Вот я и писала – настроение у людей хорошее, весна, распускается сирень. Причем искренне! Так что стукач из меня не получился.
Ещё у нас устраивались вечера. Приглашались моряки, корабли которых остались в Неве во время блокады. Крейсер «Киров», «Вице-адмирал Дрозд» и какие-то подводные лодки. И хотя мы были дистрофиками, но мы были девушками, и нам хотелось танцевать. Нарядных платьев на всех было всего два – крепдешиновые. Так девчонки этими платьями менялись. Вот познакомится морячок с девушкой в таком платье, а потом через недели две приходит на вечер к ней – а там в этом платье уже другая девочка.
На заводе нас подкармливали. Были стахановские талоны. По ним полагались щи из хряпы, отруби, что-то ещё. Какой однажды со мной случился казус! Отмечали мы 7 ноября 1942 года. Всем поставили по 100 г водки и 150 г пива. А я уже 17-летняя, почти взрослая. Решила – никому этого отдавать не буду. Это какая-никакая еда, калории! Всё употребила сама. Как я дошла домой - вообще не помню.
В общем, я закончила в школе рабочей молодежи последний класс. Была круглой отличницей. Нужно было поступать в институт. В городе таких работали всего два тогда: медицинский и электротехнический. Отец все хотел, чтобы я поступила в медицинский, мол, всегда будешь востребована. А я ответила: если я загублю прибор, то это всего лишь прибор, а не человеческая жизнь.
А поскольку в войну я уже работала на радиозаводе, то и хотела поступить на радиотехнический факультет. Думала, закончу, и вернусь на завод уже инженером. Но вышло вот как. Часть завода была эвакуирована в Ташкент и ещё не возвратилась. Поэтому я поступила только на приборостроительный, на специальность «ПУС» – приборы управления стрельбой. И мне там так понравилось, что, когда вернулись эвакуированные факультеты, я так и не стала со своего уходить. Проучилась пять лет. Первую сессию очень переживала, но закончила на «отлично» – дырку просидела на диване, готовясь к первой сессии. Такая это радость была – не работать, а учиться, быть настоящей студенткой! Потом меня взяли на завод электроприборов и я там проработала почти 40 лет…
Ленинградский День Победы
– Для нас главными днями Победы стали прорыв и снятие блокады Ленинграда. Когда прорвали «кольцо», мы были такие счастливые! Мы прыгали, вопили от счастья, кричали «Ура!» Мы поняли, что теперь мы будем жить. А до этого у меня на каждой странице дневника – «Только бы выжить!» 18 января стреляли только из ракетниц, такой вот был салют. А уже через год, 27 января, когда полностью сняли блокаду, салют был настоящий.
Но 9 мая мы всегда ходим на Невский. Раньше, когда ходили, я надевала свой «иконостас» (медали – прим. ред.) – и мне всегда много цветов дарили. Дети, люди с Востока – они как-то особо уважительно к ветеранам относятся. А тут должен пройти «Бессмертный полк». И уже выставили ограждение, народ столпился, а на меня никто и не обращает никакого внимания. Мне так обидно стало – я же живая еще! Тогда я отодвинула мальчика из оцепления: «У вас полк бессмертный? А я “ещё живой” полк, так что пустите меня!»
Галина Никифоровна прожила насыщенную и очень интересную жизнь, дважды была замужем, родила дочь, у неё есть замечательная внучка Анна и правнучка Мария, которая недавно уже закончила университет.
#блокада #дети_войны
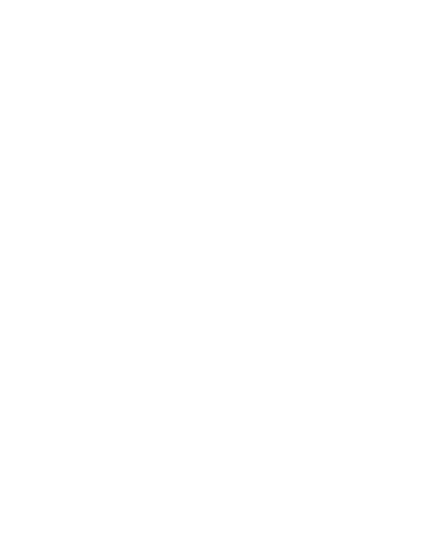
Родом я из Ленинграда, нас называли «крестовская шпана». Родился в 1922 году, всего в семье нас было 18 детей, но сейчас я остался один. Мой сын пробовал искать родственников, но найти их так и не удалось. Он живёт с семьёй в Эстонии, после войны я тоже там жил и работал: строил шахты, разъезды, атомный завод. Старался быть честным, не воровать и не таскать с завода ничего, хотя и видел, как люди это делали. Были и такие, кто своими обязанностями пренебрегал, материалы воровали, даже не думая, что могут облучение получить. Позже пришлось уехать, потому что наших фронтовиков там судить начали, очень обидно вспоминать об этом, ведь мы им помогали, отвоёвывали территории у фашистов, а в результате все фашисты, что были осуждены в Европе, давно уже на свободе, а наших советских солдат судят как преступников.
Работал я с 14 лет, мне скучать некогда было, а на войну я попал в 1941 году и сначала ходил на пароходе, был матросом. Ходили по реке Свирь. Сперва возили просто грузы, а когда началась война, таскали баржи с камнем на оборонные работы делать блиндажи, а обратно с Ленинграда - людей. Их было много, а места - мало, и люди себе перегородки делали из ковров. Много семей возили до Горького, а в Горьком они пересаживались на поезда. Но не все пережили эти переезды. В дорогу брали только самое необходимое - много вещей нельзя. Также возили людей на Ладогу, в Ваганово, там сейчас даже музей Великой Отечественной войны есть в виде носа корабля.
После того как наш пароход разбили, я попал в танковую бригаду. Прорывали блокаду на танках с внешней стороны, по Мурманской дороге. У фашистов были уже танки усиленного типа — «Тигры» — наши пушки их не брали. «Тигры» били снарядами как термитными, т.е. прожигающими насквозь, так и болванками, т.е. разрывающими. Мы отступали к границе с Финляндией и в Карелию, а после Карелии я попал на Волховский фронт.
Блокаду прорывали не в одном месте, а в нескольких. Помню, как когда мы на танке прорывали блокаду, то пехоту пропустили вперёд, а её как начали обстреливать! Ну, наши танки стали разворачиваться, чтобы прикрыть пехоту, и у нас на глазах задавили офицера, который от пуль прятался. В танке же закрыто всё - ничего не видно...
Обстреливали со всех сторон. Слышим: «Ой, помогите» — солдат стонет, с немцем схватился, оба ранены. Здоровенный немец залез на нашего солдата, мы подбежали с другом, Васин немца в горло штыком, а я говорю: «Да не мучай его!» — взвёл автомат — и в голову, каску прошил, а тут же с другой стороны уже по нам начали стрелять.
Для меня важны все бои, любой бой - его же нужно продумать. Много я за войну исходил: и в Карпатах, и в Прибалтике, и в Подмосковье был. Мы, разведчики, ходили по болоту - по настилам нельзя было. Так я все ноги истоптал - до сих пор тёмные следы от валенок остались на лодыжках. Убивали мы в редких случаях - нам, разведчикам, главное было привести живого немца, и за это мы получали награду. Нам не положено было убивать, только добивать, если уже не привести.
Помню, что как-то, когда мы вдвоём с Васиным оставались разведчиками, нам офицер посторонний говорит: «Идите!» А там пулемёт и самоход стреляют очередью. Мы с ним боялись, но не пойдёшь - будешь предателем Родины, могут и расстрелять. Вот мы и побежали: он бежит — я стреляю, я бегу — он стреляет. Хорошо тогда врага прижали! Взяли восьмерых немцев, всех обыскали, а среди них эсэсовец оказался. Один из немцев меня одёрнул за руку и говорит: «Комрат, комрат, папир, капимат!», что означало, что эсэсовец выбросил документы. В рукавицу спрятал, чтобы не узнали.
Когда мы пошли дальше, то брали пленных. Но сначала сделали вылазку. Немец раздолбал два танка, а нас было двое да писарь. Васин здесь был, а я через башню стоял на коленках. Писарь с танка упал, Васин помог ему встать. В башню постучали, попросили его внутрь посадить, а в танке тесно: и снаряды, и патроны, и гранаты (гранаты брали тоже, если встанем где-то, то выбрасывали вокруг себя, чтобы не дать противнику подойти).
В Эстонии я ходил в разведку: и один, и группами ходил, бандитов ловил. Пленных за мной очень много, хотя я не герой, а давали награды за одного, за двух, одна медаль так где-то в архиве и затерялась. Но самые ценные для меня из всех наград — это орден Отечественной войны и нагрудный знак «Гвардия». «Гвардия» же не у всех. И вот эти знаки о ранениях памятные.
После войны я не раз приходил к детям и преподавал уроки мужества, ездил по всему Советскому союзу, общался с детьми и молодёжью. И хочу, чтобы молодёжь уважала пожилых людей за то, что они сделали. Я и с немецкой молодёжью встречался. Приезжали на завод школьники из Германии, я рассказывал им о Великой Отечественной войне с нашей стороны, о том, как я «культурненько бил» фашистов, они очень внимательно слушали.
Во время войны я очень часто переезжал по частям, поэтому сразу не получил медаль «За оборону Ленинграда», а только после окончания войны. Тогда же получил и инвалидность - у меня же раздроблена рука, кости нет, плечо прострелено и осколок я носил под сердцем почти два года.
Я всё удивляюсь, как мне Бог даёт столько жить — я же третью жену похоронил. Внуки и правнуки у меня живут в Эстонии, но мне нельзя сейчас туда, я там сейчас фашист.
#блокада
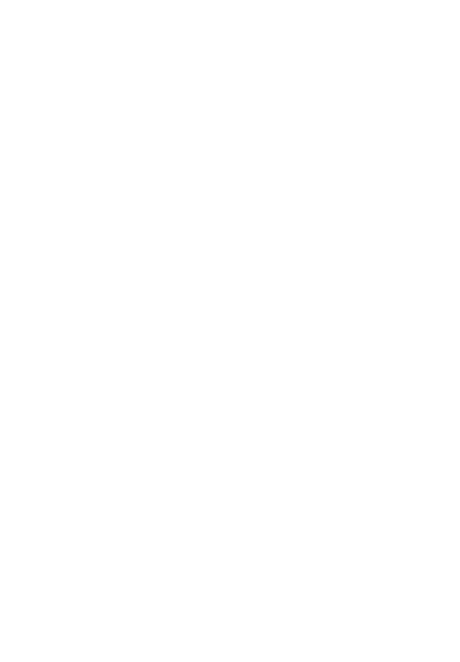
На второй день войны меня сразу в военкомат вызвали. Под Пензой был лагерь Селикса, там был сборный пункт военных. Прибывающие из разных уголков страны новобранцы проходили здесь ускоренную боевую подготовку и отправлялись на фронт в составе маршевых команд и новых воинских частей. Нас с села было три девушки. Помню, одна ушла в туалет, да так и не вернулась, и мы остались вдвоём. Пока мы были в Селиксе, то подхватили от призывников вшей и так завшивели, что это невозможно. Вот так легли спать, а на следующий день сразу все вшивые… У нас косички были – а нас под машинку остригли налысо - косы трещали, словно на огне. А потом нас из Пензы отправили в Подмосковье, и оттуда уже на западный фронт в медчасть противовоздушной обороны (ПВО).
Во время войны мои родители остались в деревне, войну они пережили. Отец работал в колхозе и валенки валял. Звали отца Осип Иванович, он был дважды репрессирован. Мать звали Анастасия Ефимовна. Еще было три сестры у меня. Старшую звали Евдокией, она аж с 1910 года, вторую звали Александрой, она с 1917 года, а младшую звали Полиной, она уже с 1926 года. Мой брат Ефрем родился в 1924 году.
На фронт из семьи троих сестёр забрали - меня и моих двоюродных. У Евдокии, когда началась война, было пятеро детей - она с ними осталась возиться. Полинку на Восток направили, а Лена забеременела – её сразу домой отправили. Не все хотели на фронт попадать: кто сбегал, кто беременел. А из родных на фронт только мы с Ефремом пошли. Письма я домой писала, когда получалось, но они доходили редко.
Ефрем воевал на Курской дуге, где получил сильные ранения и стал инвалидом первой группы. После госпиталя его демобилизовали. У него были пулевые ранения руки и ноги, аж часть потом удалили. Ещё осколки были в груди, их нельзя было вытаскивать, так и жил. Про войну говорил коротко: «Это был ад».
Во время войны я была медсестрой, не старшей, но ответственной. Сопровождала раненых в госпиталь, размещала их там, встречала с эшелонов и помогала всем распределиться. Я была здоровая, не слабая, ещё была находчивой, поэтому меня везде посылали. Выходила также санитаркой на поле боя, таскала носилки, выносила на себе раненых. Иногда оружие подбирали, чтобы на поле боя не лежало, но это редко.
Раненых мы таскали да перевязывали, но перевязочных материалов не всегда хватало, иногда портянками завязывали. В основном йодом пользовались да бинтами, всё самое примитивное было. Было всякое, и в поле принимали раненых, и в сарае, иногда госпиталь палаточный был. Ещё при необходимости я кровь сдавала для раненых, донором была.
Сами мы жили в палатках, ставили их быстро, хотя бывало, что и в землянках. Жили по-разному: иногда по 2-3 человека было, иногда очень много. В Минске вот были двухэтажные да трёхэтажные дома - там получалось занимать целую комнату!
Кормили нас как придётся. Иногда первое поешь, а иногда и не успеешь.
Военная форма была стандартная: гимнастёрка, штаны да халат. Зимой тёплые ватные штаны даже были. Ещё шинель была, даже на фотокарточке в Москве я в ней стою.
Иногда нам баню топили, если были свободны, то ходили мыться, кто как успевал. Вши же ползали да клопы, мыться нужно было.
Лично у меня ни одного ранения, был только вывих руки - аж сустав торчал - так два мужика мне его вправили и двумя дощечками поправили. А ещё была контузия - помню, как в Минске потеряла сознание во время бомбёжки. У меня тогда даже сапог с ноги улетел от ударной волны. Очнулась уже в каком-то здании на первом этаже, меня туда затащили, оказывается. Потом наш лейтенант через два дня меня оттуда забрал и снова на фронт. Всё время пешком ходили да раненых и больных на себе таскали. Всю войну шли пешком за линией фронта, так дошла я до Вильнюса.
Вообще, на войне было как: если относишься ко всем хорошо, то уважали тебя. Хотя бывало, что сто грамм кто-то выпьет - и всё… Но в Вильнюсе к нашим очень плохо относились. Идёшь мимо, продают водичку, подходишь купить, узнают, что русский, значит, сразу ничего не продают, уходишь, снова предлагают. Ненавидели нас.
Однажды, это было как раз в Вильнюсе, к нам на второй этаж заходит наш старший лейтенант Соболев и спрашивает: «Вы готовы?!» Ну мы-то всегда готовы были, хотели уже за ранеными идти, а он такой: «Война кончилась!» Тогда все высыпали, кто на балкон, кто на улицу. Победа! Вот так, конец войны я встретила в Вильнюсе. Всё было пережито, все ужасы. Тяжело было.
Разрушения были страшные. Шли через Белоруссию, видели всё это - вспоминать не хочется.
После войны я вернулась в деревню, у нас там раненые в больнице лежали. Там я и работала. В больнице не было ни одного сельского из рабочих. Две девушки ходили из соседнего села, но приходили постоянно пьяные или ещё чего, а иногда вообще не приходили. Вот мне и приходилось в столовой быть да дежурить рядом с больными, ещё выписывала меню. Так и работала там. Работы было много, село большое, несколько ферм колхозных, много полей, овец, свиней. Работала там до пенсии.
А так вышла замуж. Муж служил на Курилах, звали его Тишкин Леонид Сергеевич, он 1923 года.
#блокада
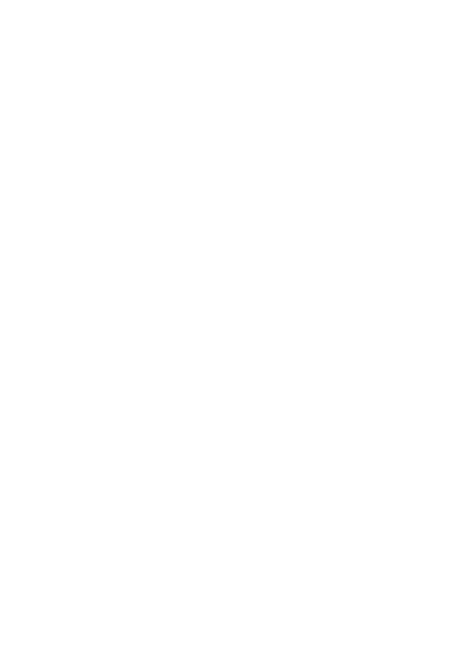
Вскоре из Ленинграда начали вывозить детей. Иру с братом, которому не было и года, вывезли по московской железной дороге в село неподалеку от города. Кормили детей не очень часто, голод перебивали яблоками, которые откуда-то таскал мальчик постарше. Но в скором времени, с приближением фашистских войск к Ленинграду, взрослые стали всерьёз опасаться за судьбу своих детей и стараться вернуть их в город. Мама и тётя Иры уговорили военного запустить детей в купейный вагон эшелона, передавали их через окно, купе было забито полностью. «Так мы приехали в Ленинград. А что случилось с другими детьми - никто не знает, в этом направлении было замыкание блокады…»
Семья Канторовичей жила на Большом проспекте Петроградской стороны. Дровяной склад дома располагался в подвале, и в первые недели бомбёжек все жильцы спускались ночью туда как в бомбоубежище. Со временем решили, что смысла в этом нет, и оставались в квартирах. «Бомбили много, страшно было. Помню, как лежу в кровати и думаю, что если бомба попадёт, то пусть нас всех сразу и вместе убьёт».
В начале блокады отец Иры откуда-то принес бутылку розового вина и конфет «Нива». «Откуда он это брал, я не знаю. Эти конфеты были мои любимые, но они довольно быстро кончились. И дальше счастливого уже не было ничего».
Отец Иры Леонид Витальевич был военнообязанным, служил при Военном инженерно-техническом университете, домой с работы не возвращался. В конце ноября семья переехала в институт, ютились вчетвером в узкой преподавательской с одним окном. Однажды родители оставили Иру варить кашу на коптилке. «Сказали: кашу вари, но пену можешь есть. И вот я ела эту пену, и мне всё казалось, что это пена, а оказалось, что я съела почти всю кашу. Мне потом было жутко стыдно, но что делать? Ругали меня», – вздыхает Ирина Леонидовна.
После голодных зимних месяцев – эвакуация по Дороге жизни в жуткий мороз. Когда грузовик с эвакуированными наконец прибыл в деревню и мама развернула маленького брата Иры в натопленной избе, выяснилось, что он серьёзно заболел – воспаление лёгких. Ира с отцом бежали по глубокому снегу в аптеку, чтобы добыть какое-то лекарство, но не успели – малыш умер. Так девочка впервые увидела, как плачет папа.
Дальнейший путь эвакуируемых лежал в Вологду, где их посадили в «теплушки» – переоборудованные товарные вагоны с несколькими уровнями нар. Ирина Леонидовна помнит, как по дороге где-то доставали мороженную, горелую картошку, настолько невкусную, что мама отказывалась её есть – убитая горем по потерянному сыну женщина ничего не хотела, – а девочка ела и картошку, и дуранду. «Казалось, что это очень вкусно. Не знаю, насколько сейчас мне бы это понравилось». Теплушки ехали в Ярославль, состав двигался очень медленно, дорога заняла около двух недель. Запах в вагоне стоял ужасный, многие мучались диареей после голода. Некоторые пассажиры умирали прямо в пути.
Наконец, дорожный кошмар кончился. В Ярославле семью Канторовичей сначала разместили в гостинице «Бристоль», потом дали две комнаты в недостроенном доме. «Из “Бристоля” мы украли две тарелки, никакой посуды же у нас не было. Позже с собой в Ленинград эти тарелки привезли. На них было написано “Бристоль”. Кроме того, нам выдали два военных серых одеяла. И они, и тарелки у нас потом долго хранились», – вспоминает Ирина Леонидовна.
Голодные дни блокады остались позади. Эвакуированные сажали картошку на другой стороне Волги, курсанты иногда снабжали их волжскими щуками. Неподалёку от дома, где жили Канторовичи, был клуб, куда детей бесплатно пускали смотреть кинофильмы.
Во время жизни в Ярославле мама родила братика Диму, Ира пошла во второй, а затем и в третий класс. В здании школы располагался госпиталь, поэтому занятия проводились на частной квартире в три смены. Школьники ходили в госпиталь, выступали перед ранеными. Ира вставала на небольшой стол и пела жалостливую песню. «Помню, мне хлопали. Хотя пою я жутко, но ребёнок же».
Осенью 1944 года, как только сняли блокаду, Канторовичи вернулась в Ленинград, в свою старую коммунальную квартиру. Город изменился, вокруг разгромленные дома. Часть зданий восстанавливали пленные немцы, в том числе и на улице Красного Курсанта, где стояла школа Иры. «Они делали брату какие-то деревянные игрушки, а мы им давали хлеб, – вспоминает Ирина Леонидовна, – А в школе нас заставляли маршировать с деревянными ружьями. И когда мы шли мимо этих немцев, то бодро пели какую-то военную песню, что-то вроде “Сталин дал приказ…”».
9 мая 1945 года Ира запомнила как счастливый, солнечный день. Утром мама подняла девочку в школу радостным словом «Победа!». Шестой класс, в котором училась Ира, весь день гулял по залитому солнцем Ленинграду.
После войны семья однажды вернулась в Горскую, проверить, на месте ли игрушки, которые закопали дети. Мама Иры там же оставляла два велосипеда. Немцы в поселок не заходили, но велосипедов не было и в помине. Как и детских игрушек.
#блокада #дети_войны
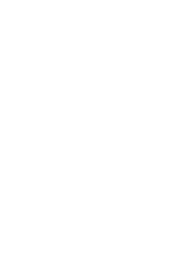
Военное детство поэта Юрия Берсенева
Юрий Михайлович Берсенев (1934-2004) – ребёнок Великой Отечественной войны, ленинградский, петербургский поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР, театральный режиссёр, актёр театра и кино, музыкант.
Когда началась война Юрин папа, инструктор ОСОВИАХИМа, добровольно оставшийся на обороне родной Одессы, отправил их с мамой, Ривой Самойловной Мерензон, в эвакуацию. (В домашнем архиве хранится удостоверение-разрешение на эвакуацию от 28 июля 1941 года). Последние слова отца, запомнившиеся шестилетнему Юрию, были: «Береги Юрика!»
Это был страшный морской путь под непрекращающимися бомбёжками и расстрелом судов из самолётов на бреющем полёте, с криками раненых и плачем испуганных детей. «Помню, - рассказывал Юрий Михайлович, - как будто горело всё море, а за бортом плавало очень много «мячей» (это были головы утопленных с разбомбленных судов)».
Дальнейший путь вглубь страны запомнился холодом, голодом, теснотой и духотой переполненных вагонов, а порой и поездками на открытых межвагонных площадках…
Первая многомесячная остановка была в хуторе Комарково, где их поселили в избу бабы Оксаны, в обязанности которой входила выпечка хлеба для работающих хуторян. Чтобы как-то помочь пожилой хозяйке, мама перед уходом на сельхозработы, в 4 часа утра, вручную месила тесто в огромном корыте. Возвращалась домой затемно, а шестилетний Юра веселил младших сыновей хозяйки, забираясь им на шею и с криками: «Вперёд, черти полосатые!», носился по избе. Запомнилось ему путешествие в зимнее поле, откуда он тащил на руках в избу белого гуся. «Помню, лежит на земле такой красивый, белый и не движется, мне так жалко его стало. Поднял его с трудом на руки, несу, его голова на длинной шее мешает мне идти, падаю, плачу, голые руки замёрзли. Принёс в избу, а баба Оксана говорит:《Выбрось его, он же мёртвый!》А я реву, кричу: 《 Ему холодно, пусть погреется!..》
В конечный путь эвакуации, г. Гурьев в Казахской ССР, они с мамой прибыли в конце 1941 года. Мама устроилась на работу в московский эвакогоспиталь № 3946 и прошла до конца войны путь от санитарки (стирала окровавленные бинты) до шеф-повара госпиталя на 2 тыс. ранбольных и 700 человек медперсонала. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». А семилетний Юра-одессит организовал из таких же детишек сотрудников госпиталя – «концертную бригаду», которая скрашивала нелегкую жизнь раненых песнями и танцами, ребята помогали им писать и читать письма, скручивать из махорки «цигарки». В госпитале показывали как-то трофейный музыкальный фильм-комедию «Джордж из Динки-джаза». Юра, обладающий абсолютным музыкальным слухом, запомнил песни на английском языке из этого фильма и впредь уморительно исполнял в палатах перед ранеными бойцами.
Гурьевский эскиз
Вдали от пламени фугасов,
На древнем Яике-реке
Я песни пел из «Динки-джаза»
На тарабарском языке.
Ходил в палату из палаты,
Ходил и пел до хрипоты,
И улыбались мне солдаты
Через кровавые бинты.
Как пономарь безбожной мессы
Я упоительно орал –
Весёлый мальчик из Одессы,
Бежавший с мамой на Урал.
– Вот это парень, право-слово!
По-иностранному поёт!
А ну, сынок, давай-ка снова! –
Просил израненный народ.
И лишь одна врачиха знала,
Ехидно щурясь в уголке,
Что всякий раз, начав сначала,
Я пел на новом «языке».
Бойцы, такие дорогие,
Потом с фронтов писали мне…
Выходит, я, как и другие,
Громил фашистов на войне!
Теперь серебряные краски
Глядят из зеркала в упор,
Но песни петь по-тарабарски
Порой пытаюсь до сих пор…
Аплодисментов жидковато…
И очень пусто во дворе…
Как трудно петь в часы заката
О том, что пелось на заре…
21 апреля 1993 г.
Одна из сотрудниц госпиталя была также эвакуирована с ребёнком и получила похоронку на своего мужа. А в г. Гурьев с фронта прибывали эшелоны с ранеными и однажды в этот самый госпиталь привезли… её мужа! Оказалось, что похоронка пришла по ошибке, а семья воссоединилась. Но после этого случая все дети сотрудников, отцы которых погибли на фронтах, ходили к каждому поезду в надежде найти папу. «Помню, сидим на уроках в школе, слышим: «Поезд с ранеными пришёл!»- нас как ветром всех сдувало, никакие окрики учительницы не могли остановить». Юра тоже бегал к поездам в надежде встретить любимого папу, несмотря на то что им с мамой тоже и уже давно пришла похоронка (отец Юры, Михаил Гершкович Зильберман, в 1941 году «геройски погиб при обороне г. Одессы»).
Памяти отца
Отчего судьбина злая
Мне жестоко присудила
Жить, не ведая, не зная,
Где отцовская могила…
Разве меньше будет больно,
Если я смогу гордиться,
Что отец мой добровольно
За Одессу дрался с «фрицем»?
Рассказали взрослым дети,
Что морозным утром ранним
Ты на Сталинском проспекте
Был повешен на каштане…
А по горестным рассказам
Уцелевшей чудом Цили —
Ваш отряд угарным газом
В катакомбах удушили…
Мне неведом край этапа,
За которым восхожденье…
Знаю, ты не дрогнул, папа,
В леденящее мгновенье…
Знаю, в миг последний самый
Вспоминал, как спозаранку
Ты катал меня и маму
На моих весёлых санках…
Как вдвоём с тобою пляшем
Добрым людям на потребу,
Как меня на жёлтом пляже
Ты подбрасываешь к небу…
30 октября 1995г.
Эшелоны с ранеными встречала в г. Гурьеве и девочка-киевлянка Соня Абелеович, которая выступала вместе с Юрой перед ранеными с чтением стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других поэтов. В поисках отца и мужа они с мамой вернулись на Украину, а позднее выяснилось Абелеовичи погибли в печах Освенцима, где на памятных плитах высечены их имена. Памяти этой девочки Юрий Михайлович посвятил своё стихотворение.
Соня Абелеович
Посвящение
(из воспоминаний военного детства)
Входя на цыпочках в палату
Ты веришь, что, в конце концов
Наверняка отыщешь тАту,
Найдёшь его среди бойцов…
И по-девичьи неустанно,
Не унимаясь без конца,
Бежишь степями Казахстана,
Ища погибшего отца…
Летишь неведомой тропою,
В кулак упрямо сжав персты,
И гордо мчится за тобою
Твоя коса на полверсты…
Потом под сводом лазарета
Читаешь П у ш к и н а на «бис»
И все печали Н а з а р е т а
В твоих очах отозвались…
А следом – Я, как гром весенний,
Как новоявленный Орфей,
И ты – в глубоком потрясенье
От голосистости моей…
И вновь, от скорости взмывая,
Летишь, глазищами светя,
Моя подружка фронтовая,
Девятилетнее дитя…
И до сих пор несёшься мимо
Легка, как горная коза…
И тлеет в чреве ОсвенцИма
Твоя бессмертная коса…
15 мая 1993г.
Но в эти трагические времена были у Юрия минуты, принадлежавшие только ему, своего рода - перерывы от войны. Скучая по маме, которая по 20 часов была на работе, он приобрёл друзей, скрашивавших его одиночество. В школьные каникулы Юра по пути к озеру, где любил купаться, навещал в степи своего друга-верблюжонка, который пасся с небольшим стадом взрослых верблюдов, принадлежавшим соседнему совхозу. Он угощал его припасённым кусочком хлеба, а верблюжонок позволял Юре обнять себя за мягкую, пушистую шею, и Юра с восторгом заглядывал в его огромные, грустные глаза, в которых, как вспоминал Юрий Михайлович, всё же иногда сверкали весёлые искринки. У Юры был ещё один друг - мышка Дуська. Она, привыкнув к его угощениям, выбегала на середину комнатки, где Юра жил с мамой, принимала очередное угощение и подолгу разглядывала щедрого мальчика. А однажды она появилась вдруг с целым выводком крошечных мышат, как будто на знакомство с её кормильцем. Юра был растроган до слёз таким доверием своей подружки, накрошил им кусочек котлетки, которую мама принесла ему с кухни и, замерев, наблюдал за весёлым семейством.
По возвращении из эвакуации в 1946 году Юрий, как сын погибшего при освобождении Одессы и музыкально одарённый мальчик, был принят в Одесское военно-музыкальное суворовское училище, которое в 1951 году окончил с отличием по классу гобоя.
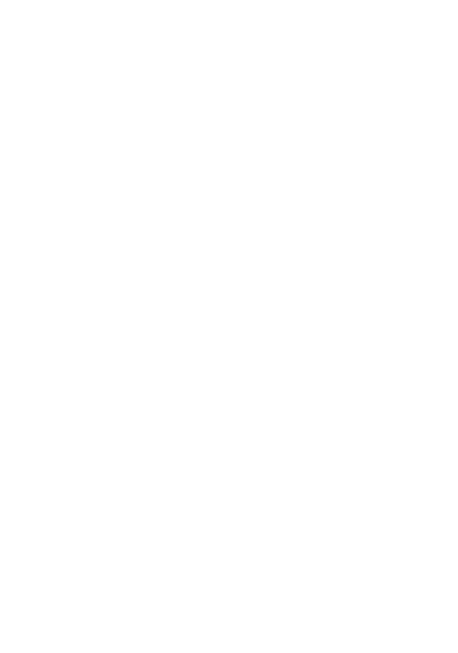
Родом я из деревни Красная Горка, что под Казанью. От города 50 километров, а от Волги – 8. У нас там школа была семиклассная. Церковь хорошая стояла. Вот там я и родился 30 марта 1927 года, закончил 7 классов, а потом пошёл работать на железную дорогу, что в 4 км была. Вообще, после я хотел пойти в военное училище, но мне отказали, так как не было образования. Я мог учиться только заочно, либо сдавать всё экстерном. Сдал всё экстерном и получил звание младшего лейтенанта. По сути, выучился на историка. Потом пошел в школу милиции, спустя три года обучения, я стал криминалистом, а потом стал преподавателем криминалистики в школе милиции.
У меня четверо братьев и сестёр. Я – второй ребенок в семье. Самая старшая – сестра. Во время войны семья оставалась под Казанью. Мы все работали в колхозе. Отец ушел на фронт в 1942 году. Когда провожали его, он был в хороших меховых штанах. В 1943 году его ранили на Волховском фронте под Ленинградом. Вернулся уже на костылях. Мы ещё получили бумажку, что он пропал без вести. Только потом обнаружилось, что жив. Медсестра из Вологды сообщила, что отец просто не может писать. Не мог писать и ходить на протяжении шести месяцев. А умер только в 1984 году.
Рассказывал, как в одном сражении вдруг потерялась связь с подразделением, оборвался телефон, нужно было восстановить связь. Командир послал его всё чинить. Отец взял телефонный провод в рот и пополз. Во время этого его и ранили. Перебило правую руку и пробило легкое. Пулю потом не стали извлекать, там она и осталась. Так как часть не удержала линию фронта, он стал считаться пропавшим без вести. На их место пришла новая часть. Раненых солдат подбирали, убитых хоронили, если могли.
В 1944 меня призвали в армию, мне было 17 лет. Попал во внутренние войска НКВД СССР, 445 стрелковый полк. Помню, была перестрелка с врагом. Их было 200 конных и 200 пеших, а нас – 97 человек в роте. Погибло тогда 17 ребят, а командиру роты прострелили глаз, он командовать уже не мог. А мы вели хорошую подпольную работу.
Вообще, все мои истории – сплошные перестрелки. Война же была. Мы за себя не беспокоились, за себя постоять могли. Помню, была у нас собака, немецкая овчарка. Собаководом был Лактионов. Она всегда ходила на прочёску лесов, помогала вылавливать врагов. Но потом в одном из боёв погибла. Собаку похоронили, как солдата, три залпа сделали. Хорошо она на поиски ходила, помогала бандитов ловить.
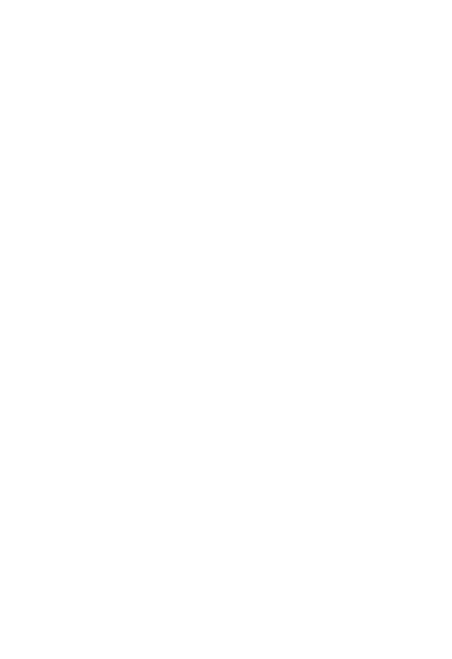
Виталий Николаевич Летушев, будучи ребёнком, пережил всю Ленинградскую блокаду. С детства пишет стихи. Особое место в его творчестве занимают стихи блокадные и военные. Имеет множество литературных наград. В 2015 году был удостоен премии Гран-при конкурса «Золотое перо», в 2016 году - Гран-при конкурса им. Ольги Берггольц, в 2020 году награждён медалью «Георгиевская лента».
Виталий Николаевич родился до войны в 1939 году, он является представителем последнего поколения, которое помнит войну. Ещё до войны дети играли «в телефончики»: брали катушку из-под ниток, к ней привязывали нитку, к другому концу привязывали спичку, клали её в спичечный коробок, начинали крутить катушку – нитка натягивалась, проскальзывала, а спичка дребезжала в коробке. При этом маленький Виталик объявлял: «Внимание! Внимание! На нас идёт Германия!» А мама говорила: «Да что ты? Успокойся. Никто на нас не идёт».
Когда началась блокада, было уже не до игр. Первый блокадный год был самым тяжёлым. Лежали в постели: Виталик, младший братик Славик и мама. Есть нечего. Голод. Холод. Однажды мама взяла братишку, завёрнутого в одеяльце, и положила на стул рядом с постелью. Виталик удивился: «Мама, ему же там холодно. Он замёрзнет!» На что мама ответила: «Нет, сынок, он уже умер».
Святое имя
Братишка мой, я в книге памяти
Твоё святое имя отыскал.
Не выжил ты в блокадной замети,
Под вой сирен и голода оскал.
Воображеньем не восполнится
Блокадной детской памяти урон.
А голова как будто звонница,
И тихо льётся поминальный звон...
Я помню – нас спасала мамочка,
Бомбёжкам и пожарам нет числа.
Как нас двоих она на саночках,
Теряя силы, сквозь метель везла.
Изжёваны пустышки-сосочки –
Болезни, голода не вынес ты.
Где похоронен ты, где косточки?
Где поклониться, положить цветы?
Твоей нет даже фотографии,
Твой образ стёрся в памяти моей.
Роятся в мыслях эпитафии,
И стынет боль далёких жутких дней…
Маленьким детям до годика помимо 125 г. хлеба также по карточкам давали маленькую бутылочку молочной смеси. Как только братишке исполнился год, смесь выдавать перестали. Он умер, когда ему было чуть больше года. В большой многокомнатной коммунальной квартире они остались вдвоём.
Когда мама уходила в булочную за хлебом, Виталик оставался один дома, укутанный в одеяло и подушки. Как правило, когда мама уходила из квартиры, двери не закрывала, поскольку не знала, вернётся или нет. Однажды мама в очередной раз ушла в булочную, и Виталик остался дома один. Вдруг открылась дверь. Зашли двое.
Незваные гости
С годами вижу всё ясней
И ярче случай из блокады,
Из полумёртвых стылых дней,
Из голода и канонады.
Забыть бы и не вспоминать,
Но этому не позабыться.
Открылась памяти тетрадь,
Трепещет чёрная страница.
Однажды мама в магазин
Ушла, ступая еле-еле.
Во всей квартире я один
Сижу в подушках на постели.
Как будто бы из-под земли
Как привидения, без стука
Мужчина с женщиной вошли,
Остановились и – ни звука.
Я, кажется, её узнал,
Но злым огнём глаза горели.
Идут ко мне, он нож достал
И прячет за полой шинели.
Наверно, дрогнула она –
Остановить его пыталась.
Но снова жуть и тишина
Сменили вспыхнувшую жалость.
А сердце детское моё
Как птица пойманная бьётся.
Не люди – хищное зверьё,
Оскалившись, ко мне крадётся.
Конечно, страшно стало мне,
Солёные душили волны.
В зловещей этой тишине
Я крик услышал – свой, безмолвный.
Они, молчание храня,
Передо мной остановились.
Звериной лапой он меня
Вот-вот сразит, но…
дверь открылась.
И мама в комнату вошла.
Потупились, смутились лица.
Но ведь она не поняла
Того, что здесь могло случиться!
Все стали утешать меня.
О чём-то говорили вместе,
Фашистов-извергов кляня,
Толкуя фронтовые вести.
Но, наконец, они ушли.
Пред тем любезно попрощались
И нож тот страшный унесли,
Лишь грязные следы остались.
Не знаю даже почему,
Но маме я тогда - ни слова.
Ведь объяснения всему
Не дашь, - а время так сурово.
Тогда я был и глуп, и мал,
Их больше никогда не видел.
А, может, видел – не узнал,
А, может, Бог их покарал…
–
Как знать, возможно, обо всём
Тогда же мама догадалась,
Но ни тогда и ни потом
Мне в той догадке не призналась.
Мама в блокаду, но уже после самого тяжёлого периода, иногда брала Виталика с собой на работу (Екатерина Павловна работала швеей), где он сидел на верстаке. Другие работницы говорили: «Пройди к начальнику, он хочет тебя угостить». Виталик проходил по длинному коридору в кабинет начальника цеха, который давал ему ложечку каши на блюдечке. Мальчик шёл обратно и ел кашку. Так было несколько раз. Однажды мальчик пришёл, а начальник уже ничего не дал. Потом и Виталик перестал ходить к нему. Через некоторое время сказали, что начальник умер от голода.
Дети блокадного Ленинграда
Пред войной рождённые дети,
Много лет нам уже сейчас.
Мы не все уцелели на свете –
Ведь блокада растила нас.
Колыбельные – вой сирены,
Взрывы, дым, огонь – не в кино.
Отлетали и падали стены –
Выживали мы всё равно.
Мы росли, как живые тени,–
Голод с нами в прятки играл,
Создавая в то жуткое время
Пискарёвский мемориал.
Мы покорно несли страданья,
Нам казалось, эта война –
Нескончаемое состоянье,
Что была и будет она.
Вечно ждать будем маму с хлебом,
Письма редкие от отца,
В страхе жить под пылающим небом,
И не будет войне конца…
Отгремели грозные годы,
Но тревожат память они.
Дети, внуки цветами природы
Вырастают в мирные дни.
Им привычно чистое небо
И красивые города,
Много света, тепла, вдоволь хлеба,
Будто так и было всегда.
Пусть повсюду вот так и будет –
Мир и счастье детям Земли!
Только сердце уже не забудет,
Как в блокаду тогда мы росли.
Мама определила Виталика в детский сад, который из-за бомбежек был перенесен в подвал дома на Ковенском переулке. Один из эпизодов детсадовской жизни лег в основу стихотворения.
В блокаду
Воспалённые дни блокады…
Угасал наш очаг – детсад.
Знали мы, что фашисты-гады
Задушить ленинградцев хотят.
Дождь свинцом отупело капал,
Блики огненные в окне.
Корки хлеба брошены на пол
Однокашником под ноги мне.
Может, дома его кормили
И получше, и повкусней?
Да, не все голодными были –
Правда, понял я это поздней.
Сыт он был и здоров, и каша
На тарелке была цела.
Незаметно к столику наша
Воспитательница подошла.
Голод. Жуткое время было, -
Но другого-то я не знал,
А она поспешно решила,
Что те корочки я побросал.
«Подними их и съешь! Не стыдно?»
На неё я в слезах глядел.
Было больно мне и обидно,
Но чужие огрызки не ел.
Где мальчишка тот? Жив ли? Может,
Мне всё это не вспоминать?
Только нагло-сытые рожи
Слишком часто я вижу опять.
Маленького Виталика душили слезы, он так ничего и не сказал воспитательнице.
Осьмушка хлеба
(Не краюшка, не горбушка, а 1/8 часть килограмма - 125 гр.)
Раньше всё спешил пробегая,
А теперь иду, не спешу...
Эти улицы с детства знаю,
Вот - по Кирочной прохожу.
Здесь, на этом углу в блокаду,
Помню, булочная была.
Говорят, вспоминать не надо,
Как осьмушка хлеба мала.
Но ведь памяти не прикажешь -
Подхожу, открываю дверь.
И светло, и уютно даже,
Только нет здесь хлеба теперь.
Всё пирожные, кексы, торты,
Пироги да иная снедь
Из муки дорогого сорта.
Изобилье - не похудеть!
Выхожу, направляюсь к Храму -
Призрак прошлого предо мной.
Вспоминаю бомбёжки, маму
И сирены жалящий вой.
День тот помню - уже ни крошки.
- Милый братик, не умирай!
В кулачки он сжимал ладошки,
Будто бы прощался: «Няй-няй...»
Вот и дом! В нём тогда мы жили.
Был отсюда за хлебом путь...
Нелегко из нынешней были
В быль минувшую заглянуть.
Пожалуй, единственный светлый момент за период ленинградской блокады – подарок, полученный на Новый год – Виталий Николаевич отобразил в стихотворении.
Мамин подарок
Мне не помнится смех мой детский –
Сразу голод и смерть кругом,
А однажды снаряд немецкий
Прилетел и разбил наш дом.
Мы остались тогда без крова,
По блокадному городу шли;
Небо вновь накалялось сурово
Да скелеты домов росли.
Надрываясь, сирены выли,
Плыл по улицам горький дым.
Люди добрые приютили,
Поделились теплом своим.
Я очнулся – лежу в постели,
Мама к сердцу прижала меня,
От голодной спасая метели
И от вражеского огня.
Как мы выжили – непонятно,
Но мы вынесли этот ад.
Нам отец писал: «Беспощадно
Бьём фашистов за Ленинград!»
Наконец, позади блокада.
Ленинградцы ликуют - салют!
Стихла вражеская канонада,
Немцев пленных толпой ведут.
Мне игрушечный домик мама,
Подарила на Новый год
И с улыбкой она сказала,
Что Победа уже идёт.
Я не знал тогда – за игрушку
Мама хлеб свой тому отдала,
Кто недавно нацеливал пушку,
В наши, может, стрелял дома.
Вспоминая сейчас всё это,
Я гляжу на игрушку-дом –
Вестник мира, тепла и света
И Победы добра над злом.
Пленных немцев в период блокады водили на разрушенные дома – восстанавливать город, работать на стройке. Некоторые из них умудрялись делать детские игрушки в обмен на хлеб. Вот за такую игрушку – деревянный домик – мама отдала свой кусочек хлеба пленному немцу.
Апрельское солнце
(Баллада)
Блокадного сорок второго
Апрель сквозь морозы идёт.
Земля прогревается снова
И тает на Ладоге лёд.
Под градом бомбёжек в Кобону
Дошли три вагона. Стоят.
Скорей разгрузить бы вагоны,
Отправить мешки в Ленинград.
В них репчатый лук. Ленинградцев
Помог от цинги бы спасти.
Машинам по льду не добраться –
И вязнут, и тонут в пути.
Что с грузом бесценнейшим будет?
Промокнет, сгниёт, пропадёт.
Закрыта Дорога, но люди
На плечи мешки и – вперёд.
Доставить тот груз непременно –
Задача подстать боевой.
По талому льду по колено,
По пояс в воде ледяной.
Уходит, как в бой, вереница,
Навстречу – и ветер, и снег.
В промоины чтоб не свалиться,
Шли в связках – пять-семь человек.
Так тридцатикилометровый
По тающей Ладоге путь
Преодолевали в суровой
Борьбе. И не передохнуть!
Палатки постов медицинских
Теперь превратились в плоты.
А берег далёк – путь неблизкий.
Владения льда и воды.
Но странно – не слышно, не видно
Фашистских налётов в пути.
Решили враги очевидно,
Что здесь невозможно пройти.
Но шёл караван многотонный –
Давался с трудом каждый шаг.
Подарок блокадникам скромный
Был перенесён на плечах.
Пол-луковки будет всего лишь
На скудный блокадный паёк.
Но сколько ж ты, луковка, стоишь
Бредущим не чувствуя ног?!
Спешили в раскисшем апреле,
Чтоб к празднику Мая успеть
Подарки вручить. И успели,
Ступив на прибрежную твердь.
Вела их незримая сила.
Здесь больше никто не пройдёт –
Назавтра совсем растопило
И вскрылся на Ладоге лёд.
____
Стирается память с годами
И нет тех Героев живых…
Апрельское солнце лучами
Нам напоминает о них.
Прежде чем отца – Николая Сидоровича – отправили на фронт, он заболел и лежал в госпитале, который находился в подвале Текстильного института. После выздоровления солдат собрали в вагонах на Московском вокзале, но никак не отправляли, не было возможности. Отец по согласованию с начальством решил пойти навестить семью: жену и двух сыновей. И с Московского вокзала он пришел в дом на Ковенский. Отец увидел умирающего младшего сына, слабого старшего и, прежде чем уйти, сказал жене: «Сохрани хотя бы одного».
Николай Сидорович прошел войну и вернулся домой. Он был на Ленинградском, Белорусском, Украинском фронтах, был на Курско-Орловской дуге, форсировал Днепр, был неоднократно ранен. Последний раз был ранен в Чехословакии, оказался в госпитале в городе Прешов. Герою-отцу Виталий Николаевич посвятил поэму «Дороги и бездорожье войны». Эту поэму и многие другие стихи Виталия Николаевича можно прочитать в интернете. Многие участники конкурсов к юбилею Победы выступают из различных городов со стихами и даже с поэмой Виталия Николаевича Летушева. Их выступления тоже можно увидеть в интернете.
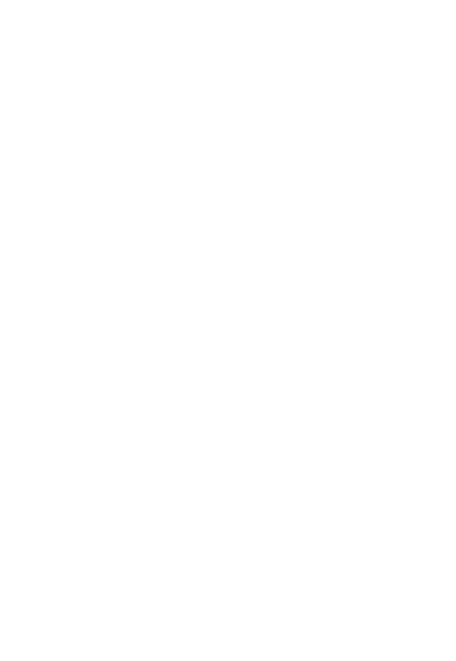
Анатолий Дмитриевич Климов почти всю Великую Отечественную войну командовал батареей боевых машин реактивной артиллерии БМ-13. Советские солдаты ласково называли их «Катюшами», немецкие – «сталинскими оргАнами» за пугающий звук при атаке. В кровопролитных боях молодой командир сумел не только нанести серьёзный урон противнику, но и сохранить личный состав.
Великая Отечественная война застала меня в Одесском артиллерийском училище им. М. В. Фрунзе. Мне тогда едва исполнилось 18 лет. Я принял военную присягу и вступил в свой первый караул.
Училище почти сразу эвакуировали на Урал, в местечко Сухой Лог. Там продолжилась подготовка офицерских кадров. С июня по январь я продолжал обучение, а по окончании меня в звании лейтенанта вместе с целой группой выпускников направили в Подмосковье на формирование гвардейских минометных частей.
Настоящая боевая биография началась в марте 1942 года на Волховском фронте в 28-м гвардейском минометном полку. В неполные двадцать лет я уже командовал батареей «Катюш», огненные снаряды которых наводили ужас на фашистов, разрушали ДОТы, переворачивали танки и орудия. Для нас такое мощное оружие было чем-то новым. Мы около месяца изучали все тонкости ведения боя с использованием этой боевой машины. Чтобы ни одна из «Катюш» не досталась врагу, возили на них по ящику взрывчатки.
Считаю большим счастьем, что всю войну прошёл вместе с «Катюшами». Когда за 10 минут из боевой машины вылетает 64 снаряда, боевой дух всех вокруг невольно крепнет. С таким оружием противник не мог нас одолеть.
Во время одной из операций моя батарея несколько дней находилась под непрерывным вражеским огнем. С моей стороны никакого личного героизма не было: я думал не о том, сколько врагов нужно подстрелить, а как защитить своих людей и грамотно выстроить атаку. После этого боя на моей груди появилась первая боевая награда – медаль «За отвагу».
Война научила меня, что командиру мало обладать одним лишь личным мужеством и героизмом. Он должен уметь уважать своих бойцов, ценить их дружбу и поддерживать, а в минуты затишья даже смеяться и дурачиться вместе с ними. Ведь на войне каждый день приходится отправлять людей на верную смерть.
За боевые заслуги я был награжден орденом Отечественной войны I-й степени, двумя орденами Отечественной войны II-й степени и Красной Звезды, но самой значимой наградой для меня был и остаётся офицерский орден Александра Невского. Я получил его за проведение Псковско-Островской наступательной операции в июле 1944 года. В ходе наступления наших частей возле районного центра Пушкинские Горы сложилась тяжёлая обстановка. 11 июля, получив боевую задачу, моя батарея совершила 200-километровый марш и ночью 12 июля вышла на определённые ей огневые позиции, не потеряв при этом ни одной машины. Метким залпом батареи было уничтожено большое количество пехоты противника и его миномётная батарея, что позволило нашей пехоте без особых потерь освободить районный центр Пушкинские Горы.
В дальнейшем вплоть до 21 июля 1944 года батарея практически не выходила из боев. Мои гвардейцы подвергались жестоким артиллерийским обстрелам и отражали контратаки противника, помогая нашим войскам, захватившим плацдарм на правом берегу реки Льжа. За десять дней жестоких боев батарея потеряла только двух человек. За умелое управление боевыми действиями батареи в ходе наступления 11-21 июля 1944 года и, проявленный при этом личный героизм, командир представил меня к ордену.
Войну закончил в Курляндии в должности начальника штаба дивизиона. После войны был начальником школы сержантов. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина и последующую службу проходил на Северном флоте и в городе Ленинграде. Служил в должностях заместителя командира корабля по политической части, а затем начальника организационно-инструкторского отдела Политуправления Северного флота, заместителя начальника политического отдела по Военно-морским учебным заведениям Ленинградской военно-морской базы, начальника политического отдела – заместителя начальника Высшего военно-морского училища имени Ф. Э. Дзержинского, начальника политического отдела – заместителя начальника 28-го НИИ Министерства обороны. В составе этого НИИ был исполнителем, научным руководителем и заместителем научного руководителя ряда научно-исследовательских работ, стал кандидатом наук, доцентом.
После увольнения в запас в 1984 году работал учёным секретарем Учёного совета Высшего военно-морского училища имени Ф. Э. Дзержинского до 1998 года. В 2004 году стал лауреатом «Золотой Книги Санкт-Петербурга».
В марте 1990 года в городе Ленинграде был создан Клуб кавалеров ордена Александра Невского, действующий и в настоящее время. В его состав входят не только ныне здравствующие ветераны Великой Отечественной войны - кавалеры ордена Александра Невского, но и их жёны, дети и внуки. Мы встречаемся практически каждый месяц, обменивается опытом, строим планы на будущее. Наша цель - повышение уровня духовности современного общества, формирование патриотического сознания у граждан и, прежде всего - у молодёжи на примере жизни и деятельности Великого Князя Александра Невского, на примере фронтовиков Великой Отечественной войны и других защитников Отечества.
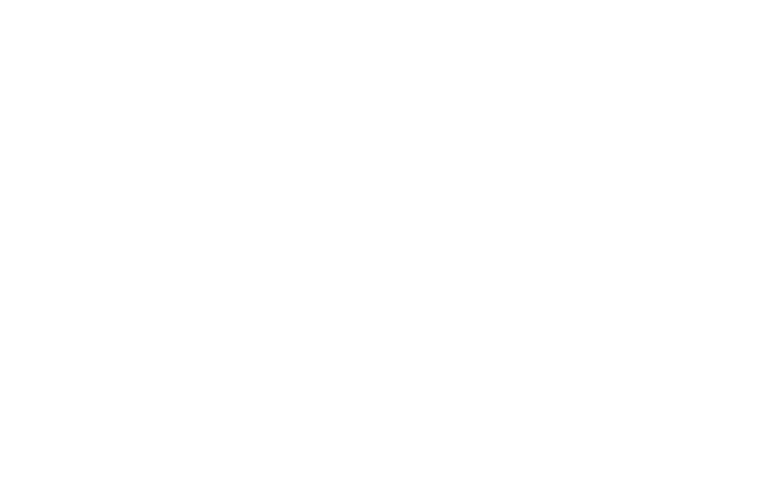
Грустная улыбка, пронзительный, но мягкий взгляд. Юрий Захарович Мацин – ребёнок блокадного Ленинграда.
Детство Юрий Захарович провёл в Петроградском районе. Когда началась война, он отдыхал в пионерском лагере под Сиверской. Стоял воскресный солнечный день, первый тёплый день с начала лета 1941-го. Дети собирались проводить карнавал, шили костюмы, ждали родителей. А в полдень сообщили: началась война. Юрий Захарович признаётся, что в начале он, как и другие дети, не осознал всей серьёзности ситуации: незадолго до этого была советско-финская война, учебные тревоги были обычным делом. Дети восприняли объявление как игру. Не понимали, почему плачут девочки, ведь война – это так интересно. Вылезали из окон, наблюдали за самолётами в небе... На следующий день родители забрали детей домой.
Отцу Юрия Захаровича было 62 года, он уже не подлежал призыву на фронт. Захар Николаевич Мацин был оперным певцом, с 1935 года солировал в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова (позже вернувшем себе имя Мариинского театра). Театр готовился к эвакуации, артистов отправляли несколькими эшелонами. Отца успели эвакуировать в город Молотов (ныне – Пермь), а Юрий вместе с матерью и сестрой остались в Ленинграде - их должны были эвакуировать в следующую очередь, но не успели — 8 сентября кольцо блокады замкнулось. «Тогда я почувствовал, что такое настоящая война. Начался голод».
Во время войны печки-буржуйки в квартирах топили мебелью, а трубу выводили прямо в окно. Юрий вспоминает как ходил за водой с санками. Старшая сестра Юрия - Нина - пошла работать в госпиталь санитаркой, а мама - Елизавета Александровна - вступила в группу самозащиты местной противовоздушной обороны и по вечерам поднималась на крышу, боролась с «зажигалками» – упавшую на крышу бомбу брали клещами и опускали в ящик с песком, чтобы потушить и обезопасить дом.
В январе 1942-го двоюродный брат мамы вывозил жён военнослужащих из города – как именно это происходило, Юрий Захарович не помнит. Брат не мог взять всю семью Мациных, поэтому поехал только Юрий. На вокзале города Молотова его передали отцу. Они жили на окраине города в комнате с другими людьми, спали на одной кровати. Юрий Захарович рассказывает, как ходил оттуда до театра через весь город.
В апреле 1941 г. один из эшелонов завёз в Молотов сыпной тиф, и там началась эпидемия. Отец «сгорел» за четыре дня. Но театр не бросил Юрия – артисты заботились о нём, пока через три месяца его не забрали к себе мама с сестрой, которые приехали из блокадного Ленинграда. Юрий Захарович с дрожью в голосе вспоминает, что когда увидел своих родных, прибывших к нему в Молотов, они были похожи на «два скелета». Воссоединившись, семья переселилась в центр города, неподалёку от театра.
Сестра Юрия, Нина Захаровна Мацина, начала переписывать партии для инструментов оркестра, да так и проработала на этой должности в Мариинском театре до 93 лет. Юрий учился в школе, пел в детском хоре, играл в театре. Ему платили 10 рублей за спектакль, а в день самого представления давали чай с бутербродами.
Один случай Юрий Захарович запомнил на всю жизнь. Из блокадного Ленинграда в Молотов приехала Агриппина Яковлевна Ваганова — артистка балета, педагог, основоположник теории русского классического балета, народная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии I степени. Агриппина Яковлевна по достоинству оценила способности Юрия, а потом скрылась за кулисами и вернулась с... котлетой.
«Это очень дорогого стоило. Эта котлетка осталась у меня в памяти на всю жизнь», – делится воспоминанием Юрий Захарович.
Вдохновлённый этой оценкой, Юрий Захарович после войны вернулся в родной Ленинград и продолжил обучение в Ленинградском Хореографическом училище, где проучился четыре года. Немаловажным фактором в пользу выбора училища было ещё и то, что там в голодные послевоенные времена подкармливали своих студентов. Однако, жизнь свою с хореографией Юрий Захарович так и не связал. После училища он вернулся в обычную школу, закончил её и поступил в институт ЛИСИ на вечернее отделение, подрабатывая инженером. Потом на четыре года ушёл в армию, на флот, что очень ему помогло в дальнейшем обучении. Вернувшись из армии, Юрий Захарович продолжил работу инженером-конструктором в области строительства, а до выхода на пенсию 38 лет проработал в фармацевтической промышленности.
Помимо этого, у Юрия Захаровича есть необычное увлечение - он снимает и монтирует познавательные видеофильмы о Царскосельских дворцах с парками и о Ленинграде - всего им создано уже семнадцать картин, с которыми он участвовал в конкурсах и даже становился Всероссийским лауреатом за вклад в краеведение. Все фильмы можно увидеть в свободное доступе в интернете.